
Фольклор хранит лаконичную информацию о
наиболее правильных и удобных нормах жизни,
поведения и общения, универсальных во все времена.
А. Каргин «Народное творчество». № 2, 2005.
В календаре восточных славян существует интересный период, называемый «Петровки» (с вариантами): «После зелёных святок наступала Петровка — пора самых длинных в году дней и самых коротких ночей» (5. С. 11). Об этом благодатном, тёплом времени года, когда закончились весенние заморозки, но ещё не наступили «июльские жары», вспоминает замерзающая девушка в белорусской сказке «Пра падчарку»: «— Трубi, Марозiк, твая пара. У пятроўку не будзеш» (5. С. 231).
Пора пятровок завершалась в Украине в канун Купалы, а в Великороссии — через несколько дней после Купалы — 29 июня, в день традиционного праздника, именуемого в церковном календаре днём Петра и Павла. Церковный пост перед этим днём также назывался «петровки». Чем занимался народ в это время, мы узнаём из царской переписки с церковью в 1551 году: В первый понедельник Петрова поста в рощи ходят и наливки бесовские потехи деяти (41. С. 91—92).
Известно, что дни памяти выдающихся христианских святых совпадают с датами почитания и именами главных языческих богов: Влас — Волос, Юрий — Ярила, западнославянский Святовит превратился в святого Витта, а словосочетание «пророк Илья» копирует фонетику устойчивой характеристики Перуна: «пророкочет и льёт». Возможность того, что праздник Петра и Павла «из этой же серии» — весьма велика, но для начала необходимо выяснить, а отмечалась ли эта дата в дохристианское время, то есть, достаточно ли древен сам праздник?
Этнографические материалы по этой теме, собранные в предыдущих столетиях, не складываются в ясную картину, отражающую суть торжества.
В Нерехте называют день Петра и Павла — барашка в лоб.
На границе Вольского и Тотемского округов … ежегодно бывает … народный праздник … на который собирается множество народа, и … убив быка, купленного на счёт всей волости, разнимают его на части и варят в больших котлах.
Предание старинное гласит, что некогда на этот праздник перед обеднею выбежал из густых лесов олень; народ, почитая его даянием Божим, убил его и, разняв на части, приготовил себе обед. Это продолжалось несколько лет, в один год долго не показывался олень, поселяне вместо него убили быка (39. С. 274).
Упоминание о братчинах с закалыванием быка (барашка), а также старинные предания о выбегающем в этот день олене, который и был первоначально жертвенной пищей, говорят о древности и языческой сути праздника. Эти пиры — «Петровское разговенье» — происходили при завершении Петровского поста, начинавшегося с Зелёных Святок. Об этом посте народ говорил: «его придумали попы да бабы», народ помнил, что это нововведение, олень же вышел к людям в этот день некогда, то есть давно, следовательно, народный праздник первичен, а его христианское оформление вторично. О том, что пиры в этот день не связаны с христианством, говорит и то, что апостол Пётр считался покровителем рыбного промысла и никакого отношения к мясной пище не имеет (26. С. 248—249).
О грандиозности и языческой сущности праздника говорит ещё и то, что общество следило за тем, что бы в празднике поголовно участвовало всё население. «Тому, кто не участвовал в утренних обрядах накануне Петрова дня, вешали на крыльцо лошадиную голову, которую называли «килой»; при этом стучали в окно и пели:
Петровская Кила
По зорям ходила,
Усех побудила,
Афросинью забыла.
А девушки ходют,
Песни поют,
Фросинью величают,
Килу Фросинье прицепляют» (16. С. 44).
Кила это грыжа, опухоль, нарост, то есть болезнь. Не участвовавшему в обряде преподносилось материальное проклятие — пожелание заболеть, так как он своим поведением вредил коллективу. «Килу» из пучка соломы или надутого телячьего пузыря навешивали провинившимся и в другие значимые для общины дни, но эта кила не была лошадью.
Некая «Кыла упоминается в «Слове о том, как погани суть языцы кланялись идолом». Е. В. Аничков увидел в ней одно из божеств, поклонение которым порицалось христианами… В Древней Греции существовало поверье о злой женщине «Гилло», или «Гиллу», являющейся, по мнению исследователей, прототипом русских «сестёр-трясовиц»… Кроме того, В Древней Греции были довольно распространены деревни с названием «Калеи»; в частности, в деревне с таким названием совершались таинства в честь Деметры. Название подразумевает местный женский культ и в буквальном переводе обозначает «вопящие женщины». Раз в месяц женщины этой деревни выходили на перекрёстки и поднимали вопль, обратив взоры к луне. Тот же корень присутствует в именах нескольких древнегреческих богинь (Калипсо, Каллиопа, Каллироя, Каллисто), связанных с землёй, водой и миром мёртвых. В частности, имя Калипсо («та, что скрывает») указывает на связь богини с миром смерти. С миром тьмы и смерти связаны функции древнеиндийской богини Кали…» (2. С. 382; 43. С. 135).
Для нас интересно то, что на Пятра килой была голова лошади, причём вешалась она ленивым девушкам. В восточнославянском фольклоре имеется сказка, которая так и называется — «Кобылячья голова». Это сказка типа «Морозко», о трудолюбивой падчерице и нерадивой дочке, к которым приходит с просьбами Кобылячья голова, покладистую девушку она награждает, а грубиянку съедает — смотри, например, в сборнике сказок А. Н. Афанасьева, № 99 (3). Некоторые исследователи считают, что это особый сюжет, который необходимо выделить в отдельный тип сказок. Между прочим, этот сюжет является как бы специфической особенностью русского фольклора, так как в Западной Европе он не встречается (40. С. 322). Особенно жутко выглядит вариант из украинского сборника «Героiко-фантастичнi казки», изложенный в стиле быличек, с бытовыми подробностями, так что создаётся впечатление, что это было вчера, в соседнем селе (12. С. 193).
Вообще, Кобылячья голова и лошадь как испытательница девушки встречается довольно часто в русских и украинских сказках. У западных славян чучелом огромной белой лошади пугали девиц, нарушавших запрет прясть в день св. Люции и Барбары, накануне зимнего солнцестояния (12, 16 декабря). В народных поверьях ведьма могла обратиться в жабу, кошку и других животных, но самое страшное превращение в коня — он убивает (7. С. 370).
В ареале культуры Псковских длинных курганов (V в. н.э.), в нижнем течении реки Мста между деревнями Полосы и Самокража имеется урочище Кобылья Голова, в котором располагалось древнее кладбище (ямные захоронения остатков кремации) (36. С. 359—360).
Связь кобыльей головы с кладбищем и смертью подтверждает Троицкий обычай Пензенской губернии. По сведениям С. В. Максимова, «провожали весну и встречали русалок» там так: Один наряжается козлом, другой … изображает собой свинью, … четвёртый наряжается лошадью… Для этого на палку надевается головная лошадиная кость… С этой палкой в руке … парень являет собой подобие коня, ставшего на дыбы … впереди идут с лошадью русальщики, за ними бегут вприскочку перепачканные ребятки, которые подгоняют кнутами передних. В поле за деревней … лошадиную голову бросают в яму… (26. С. 240—241). Мы видим, что рядились в разных животных, но хоронили («убивали») только лошадиный череп, следовательно, он был «гвоздём программы».
Но «перещеголяла» всех индуистская космогония. В конце кальпы — «дня Брахмы» — наступает пралая — уничтожение материального мира и богов космическим огнём, таящимся в глубинах океана в облике «кобыльей пасти» (вадавамукха) (35. С. 94).
Мы видим удивительное совпадение индийской космогонии и славянской топографии — близ вод Балтийского моря, на реке со зловещим названием Мста (от мститься — мерещиться, казаться, или от западнославянского msta — «месть») располагалась местность Кобылья Голова, которой как бы поглощались останки сожжённых людей.
Однако против распоясавшегося демона в локальных традициях имелись свои приёмы.
Шейн (1887) сообщает о белорусском купальском обряде забивания конской головы. Молодёжь украшала цветами и венками заранее приготовленную конскую голову и вешала её на сук отдельно стоявшего, желательно на пригорке, большого дерева, под которым разводили костёр. Когда огонь разгорался и становился достаточно большим, то каждый присутствующий кидал в голову камни или палки, стараясь сбить её с сука, так, чтобы она упала прямо в огонь, где должна была сгореть совсем (13. С. 191).
Широко распространённые песни купальского цикла о сжигаемых в кострах ведьмах, по-видимому, описывают этот обряд, сохранившийся на ограниченной территории.
Вроде бы малозначимые, отрывочные сведения о лошадиной голове, разбросанные по славянским территориям, сведённые вместе и проанализированные, достаточно ярко характеризуют славянское языческое мировоззрение. Судите сами: в индуизме Кобылья пасть, живущая в глубинах и распоряжающаяся небесным огнём, уничтожает человека (и всё остальное). А в славянских традициях чаще всего сам Человек отправляет Кобылью голову в глубины и уничтожает её огнём.
Древний образ ведьмы-лошади мы находим и в настоящее время, например, в репертуаре рокгруппы «Мельница» есть песня «Ночная кобыла». Немецкого философа Отто Вейнингера (1880—1903), тонко чувствовавшего архетипы, тоже беспокоил образ лошади, и в частности кобылья голова: Ещё прежде, чем я думал о лошади, как психолог животных, меня поражала голова лошади, которая производила на меня впечатление несвободы (Подчёркнуто мной — Т. Пятница). В то же время я понял, что эта голова лошади может казаться комичной. Крайне загадочно постоянное кивание головой у лошади. Мне в голову пришла мысль … многое мне разъяснившая — что лошадь выражает собой безумие (8. С. 144).
Интересно, что в восточнославянских сказках так же говорится о несвободе, комичности и загадочном кивании Кобылячьей головы:
Отозвалась (на зов девушки вечерять) Кобылячья голова. Стучит, гремит, до дедовой дочки вечерять идёт.
— Девка, девка, отвори!
Она отворила.
— Девка, девка, через порог пересади!
Она пересадила.
— Девка, девка, подсади меня на печь!
Она посадила.
— Девка, девка, дай мне ужинать!
Она подала ей ужин (12. С. 196).
А вот белорусская сказка «Как ведьма сына женила»: девушка случайно попадает к колдунье, сын которой влюбляется в пленницу и помогает ей справиться с трудными задачами. Ведьма соглашается на свадьбу и посылает невесту звать всю свою родню в гости: она (девушка) пошла на двор плача, ведь чёрт его знает, где род ведьмы искать? Вышел ведьмин сын и говорит: Тихо дура, не плачь! И дал ей конскую голову. Иди, говорит, с этой головой, встань над озером, положи эту голову на свою голову и всё кивай стоя, всё кивай. С озера будут черти вылезать и идти на веселье… Как он научил, так она и сделала. Приходит (девушка) домой, а ведьма сидит уже за столом с чертями. Ведьма как глянула на девушку, так распотешилась и давай ржать-смеяться… Роготала, роготала, да и лопнула! (5. С. 123).
Если эту сказку рассказать на словенском языке, то ведьма, чья родня живёт в озере, называлась бы вилой (víla — «колдунья»). На чешском же vila — «дурак», на древнепольском wiła — «умалишённый» (50. Т. 1. С. 314, 315). Эта информация пригодится нам в дальнейшем.
Да, вся эта ситуация с головой лошади, представленная в сказке, достаточно безумна. И ведь восточные славяне явили это миру задолго до О. Вейнингера. Вот так-то, а он называл русских — самым негреческим (неклассическим) народом из всех народов (8. С. 21).
В славянской мифологии испытательницей и оценщицей девушек и женщин является Макошь, её связь с западнославянскими святыми Люцией и Барбарой показана в статье Валенцовой «Святые-демоны Люция и Барбара в западнославянской календарной мифологии»: «…Ряженные «Люцией» имеют зооморфные черты, свойственные демонологическим персонажам: конскую голову, гусиные лапки, птичий клюв». Они могут, зайдя в дом, молча вымести гусиным крылом всё плохое, но могут и перепачкать хозяев сажей или мукой, перевернуть или побить посуду (7. С. 370).
Злая сторона Макоши — кикимора, страшна, смешна и безумна: она неопрятна, стучит, гремит по ночам прялкой, путает пряжу, постоянно подпрыгивает, хихикает и кивает головой. Так же, как от безумного, недееспособного человека, «от кикиморы не дождёшься рубахи», хотя она и пытается шить, но всегда безрезультатно.
В Словакии одним из важнейших охранительных обрядов дня св. Люции (как, впрочем, Сочельника и некоторых других дней) было … осеl`ovanie («хождение со сталью»), основной мотировкой исполнения которого … было: «…чтобы у вас горшки и тарелки не бились, ножи, топоры не ломались, цепи не рвались»… Рано утром мальчики приносили в дом кусок железа … ворошили огонь в печи, гремели цепью, произносили благопожелания (7. С. 371, 363). Атрибутом Люции был железный топор. В средневековой Индии после перехода от сжигания на огне жертвоприношений (для Кали — кровавых) к подношению божеству пищи, цветов, плодов (III—IV вв.), зловещей Кали приносили железо (35. С. 97).
Связь влаголюбивой Макоши и «кикиморы болотной» с железом и кровью станет более явной, если мы вспомним, что железо добывалось из породы, называемой болотный железняк. Места с его присутствием назывались по цвету ржавыми болотами, а сама порода — рудой. Во многих славянских языках рудой называется кровь. Корни руд—руж—рож—род в индоевропейских языках означают красный цвет. Так как с кровью человечество познакомилось раньше железа, можно считать, что ржавые болота и железная руда мыслились кровавыми.
В восточнославянской народной медицине железным ключом, надетым на шею задом наперёд, останавливали («запирали») кровь. «Подобное лечится подобным» — этот принцип древнего традиционного лечения, основанный на вроде бы внешнем сходстве крови и руды, в настоящее время находит научное подтверждение: кровь без железа неполноценна, потеря крови, вызывающая анемию, восстанавливается препаратами железа.
Интересно, что и кила связана с железом, эта связь прослеживается на языковом уровне. Болезнь горла — воспалённые гланды — та же кила, по сути, является частным случаем разрастания желёзок. О. Н. Трубачёв, выдающийся русский филолог-славист, помимо прочего, выявил этимологическую связь между рудой болотного железняка, желёзками, желваками, гландами, основанную на сходстве этих реалий — всё это маленькие твёрдые комочки; причём, когда гланды воспалены, во рту появляется вкус железа.
Связь лошади с железом более очевидна. Воинственный железный век наступал у разных народов в разное время, но всегда тогда, когда приручение коня сочеталось с умением «железо ковати».
Возвращаясь к Макоши, можно констатировать, что она имеет отношение к крови и железу в его необработанном (природном) виде, а также выявляется ещё одна ипостась Богини — белая кобыла, женщина с лошадиной головой или женщина с черепом лошади на голове. У других индоевропейских племён признаки лошади имели кельтская Эпона и иранская Ардви Сура Анахита, которая носилась по небу с развевающимся конским хвостом. Метла, торчащая из-под подола летящей ведьмы, видимо, есть имитация такого лошадиного хвоста.
Связь коня (лошади) с Солнцем известна, но в сказке «Кобылячья голова» она не видна. Народные обычаи приноса лошадиной головы к ленивым девицам в дни, близкие к летнему и зимнему солнцестояниям — говорят о том, что сказки этого типа связаны с Солнцем и, вероятно, рассказывались в периоды солнечных фаз, в том числе и на Пятровки. Этот вывод противоречит сведениям о том, что все сказки рассказывались только в осенне-зимний «камерный» период, свободный от полевых работ. Записывая подобного рода сообщения, этнографы прошлого не трудились поинтересоваться, каков был репертуар «напечных» сказок. Ведь сказки бывают детские и взрослые, бытовые и волшебные, о героях с активной деятельностью и об удачливых лентяях. Логично предположить, что мифологические сказки о деяниях Богов и Богинь рассказывали не зимой на печи, но в календарные даты, им посвящённые, и не воспринимались рассказчиками и слушателями как собственно сказки, но как сакральные тексты, кощуны.
По народным поверьям, «солнце в день Петра и Павла, как и в день Светлого христова Воскресенья, играет какими-то особенными цветами, которые переливаются и искрятся как радуга…», и вся молодёжь с вечера уходит «караулить солнце». «Этот обычай … первоначально был установлен с целью отогнать от села русалок, которые в Петров день своими злыми шалостями причиняли немало вреда посевам». «Встретив солнышко, молодёжь, обыкновенно, ещё не расходится по домам, а заплетает венки на ветках деревьев, преимущественно на берёзе, — с теми же символами, какие придаются венкам на Троицын день» (26. С. 248—249).
«Караулить» — означает «ждать», а когда ждёшь в компании, самое подходящее время рассказать сказку, приличествующую моменту, например, Кобылячью голову. Рассказанная к месту, она подскажет новичкам и напомнит бывалым, каким образом проучить девиц, проигнорировавших общественное действо. Так соблюдается принцип: как делали Боги, так поступаем и мы.
Д. К. Зеленин считает Петров день одним из весенних праздников восточных славян в честь русалок. В этот день, который признавался сроком ухода русалок из лесов и полей в реки и другие водные источники, во многих районах происходили «проводы русалок». Нередко обряд сопровождался играми, в которых в той или иной форме изображалась борьба ряженных русалками с провожающими их крестьянами. Примечательно, что, по свидетельству собирателей ряда южнорусских и белорусских районов, женщины или мужчины, изображавшие русалок, стремились поймать кого-нибудь из провожающих (18. С. 234; 16. С. 86).
Согласно Потебне, вышеупомянутое слово вила — «колдунья», родственно лит. Vejù, výti, pavýti — «преследовать, догонять», авест. Vayeiti — «гонит, преследует, пугает», др.- исл. veiðr — «охота, ловля» (50).
Сообщения о русалках, венках, играющем солнце — показывают, что Петров день входит в Русальско-Купальский (Троице-Купальский) цикл народного календаря и рассматриваться должен с оглядкой на эти праздники.
Их связь хорошо видна в белорусской купальской песне:
Перед Пятром, пятым днём
Разгулялся Яна конь. Ой, то-то!
(23. С. 419).
В этом варианте широко распространённой на восточнославянской территории весенне-летней песни о коне, разбивающем землю копытом, даётся намёк на разгадку названия народного праздника: Петров день — это пятый день, перед которым гуляет Купальский конь. Отнимем от даты Пятрова дня — 29 июня — 5 дней, и получим 24 июня — дату летнего солнцестояния (Иван Купала по народному календарю).
День памяти христианского апостола случайно или неслучайно наложился на народный праздник, название которого было созвучно имени Петра — «Пятровки». В самом имени «Пётр» славянское ухо слышало цифру пять, диалектные варианты произношения «Пятро» намекают нам на это. В этом нет ничего удивительного, так как в славянской среде были довольно распространены личные имена — производные от числительных: Одинец, Троян и т.д. Одним из имён богини Макошь было Пятница, Петка (южн.-сл.), ей был посвящён пятый день недели.
Однако исконное название праздника Пятровки, скорее всего, происходит не напрямую от числительного 5. У большинства народов религиозные воззрения появились ранее числительных. Этнографами описаны племена, имеющие развитую мифологию и счёт до трёх, типа: раз, два, много. Учитывая древность богини Макоши, можно предположить, что и её эпитет Пятница, и слово пять — происходят от одного корня, изначально не обозначавшего число. Рассмотрев семантическое поле однокоренных слов пять, пясть, пятка, пятно, пятнашки и других, мы увидим, что все они несут значение удара, пинка, захвата и следа, метки от них. Например (по Фасмеру), пятка и пятно — от пнуть; пять, пясть — родственно индоевропейским словам со значением хватать (50. Т. III. С. 422—426).
Вначале было слово, и слово было дело. Действие, например, трение проще всего изобразить пальцами, количество которых впоследствии стало называться три. В глубокой древности, когда руки и ноги человека были его единственными орудиями производства, пинки ступнями и захваты руками, следы от этих действий и то, чем они производились — пятки и пясти, назывались словами одного корня. С этой точки зрения название праздника Пятровки говорит нам о поимке, хватании, рукобитье, осаливании наотмашь, энергичном топоте и хлопанье и других подобных действах руками и ногами.
Появление понятия чисел, а затем и календаря, удивительно точно наложилось на череду отмечаемых народом дат: Пятровским разговеньем (пиром) завершался цикл весенне-летних праздников, нацеленных на повышение репродуктивных сил природы, и человека в том числе: Русалии—Ляльник—Ярилин день—Купала. Пятровки — пятый праздник в этой цепи. Каждый из них посвящён своему мифологическому персонажу. (В эту цепь не входят весенне-летние специфические, профессиональные праздники, например, мужские: пасечников, коневодов, и женские: льнянины-Оленины).
Как справедливо заметил В. Н. Топоров, числа — элементы особого числового кода, с помощью которого описывается Вселенная, человек и сама система метаописания. В древних мифопоэтических традициях число было не только образом мироздания, но и средством его периодического восстановления в циклической схеме развития, средством преодоления деструктивных хаотических тенденций (47. С. 629).
М. Маковский, рассматривая семасиологические связи индоевропейских слов, обозначающих первый десяток чисел натурального ряда, делает вывод: Число «пять» — символ союза (в частности, брачного), символ центра, середины, а так же гармонии и равновесия, порядка, совершенства, божественной силы (25. С. 391). В этой связи можно привести пример празднования Петровок в одной из губерний России, где крестьянами разыгрывалась потешная свадьба, причём жених и невеста сидели на тележных колёсах — символах солнца. Вспомним, что и в сказке «Кобылячья голова», которую можно смело назвать сказкой Пятровского цикла, действо закручено вокруг намеченной свадьбы.
Напомню, что Купало-Пятровский период летнего солнцестояния был серединой солнечного года и в русской традиции назывался «макушкой лета». Фольклором отмечается гармоничное сочетание, равновесие негативных и позитивных примет времени Пятровок: в июне еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи поют (31. С. 96).
Совпадения значений корня, от которого происходит название праздника Пятровка, с этнографическими описаниями этого праздника — ещё раз доказывают его дохристианскую древность.
Русские пословицы об этом времени гласят:
Макушка лета через прясла глядит (31. С. 104),
Петров день — проводы весны,
Женское лето по Петров день,
С Петрова дня красное лето, зелёный покос,
Прошли петровки, опало по листу…,
На Петра девки крестят (хоронят) кукушку…,
Соловей поёт до Петрова дня. Кукушка кукует до Петрова дня (14. Т. 2. С. 341).
Первая пословица замечательна тем, что намекает нам на некое действо, возможно, ритуальное. Собственно, прясла — это небольшие каменные, глиняные или металлические цилиндрики со сквозным отверстием для утяжеления веретена. На одно веретено могло насаживаться несколько пряслиц. С прядением и «макушкой лета» связана Богиня Макошь (21. С. 520 и далее). Но слово прясло имеет и другие значения: звено изгороди, забора от столба до столба, ярус, этаж, а так же степень, достоинство, то есть в принципе это ряд, порядок, связь вереницей (15. Т. 3. С. 533).
«Смотреть через прясла» — это, во-первых, подносить руками к глазу две шайбочки, поставив одну за другой рядом, связью в виде подзорной трубы, что позволяет разглядеть удалённые объекты более чётко. Такие манипуляции, повышающие остроту зрения, гипотетически реконструируемые на основании старинной пословицы, вполне согласуются с известными фольклорными данными о том, что Макошь имеет отношение к качеству зрения: она насылает и лечит глазные болезни.
Во-вторых, «смотреть через прясла» — это смотреть за ограду или поверх ярусов, но самое главное — смотреть, невзирая на степень и достоинство человека, поверх установленной череды порядков, то есть опять же — вдаль и ввысь.
Подходя к проблеме более широко, отметим, что «смотреть вдаль» вообще или через примитивный оптический прибор — это ясно видеть, предвидеть, что намекает на предсказания вещих женщин — жриц Макоши, приуроченные к летнему солнцестоянию.
Пословица о кукушке и соловье говорит о том, что прекращались гадания по пению птиц, некогда весьма распространённые и имевшие общественное значение.
«Особое положение среди птиц, воплощающих человеческие души, занимает кукушка. По большей части в виде кукушки прилетают к своим родным души, окончательно расставшиеся с земным миром и уже нашедшие своё место на том свете: «От вона, зозулька прилетае до Паски ще, то каже, душечка прилетила. То й у мэни було тако — мати и брат разом умерли; як станешь плакати та як вийдешь на двир — вона и куе пушче. И як вона прилитае у садок и починае ковати, то говорять: то уже мэртвый прилетеу, шкодуе свово мисця».» (42. С. 77. Гомельская обл.)
Не все поверья о птицах, связанные с Пятровками, были так романтичны. Среди мальчуганов распространено мнение, будто в разгар лета воробьи бывают самые жирные; многие убивают их и добывают жир, которым мажут себе penis’ы: «лучше расти будут» (10. C. 20).
Возвращаясь к душам погибших людей, необходимо отметить, что они вселялись не только в птиц, но так же в деревья и травы.
Ой не руби, не обрубай
Эту веточку,
Бо не знаешь, что рубаешь
Мою головочку…
Ой не руби, не обрубай
Эти сучки,
Бо не знаешь, то рубаешь
Мои белы ручки… (29. С. 18—19).
Собравшиеся на Купалу идут процессией, пересечь путь которой не разрешается под страхом смерти:
Иван, Ивашечка,
Не переходи стёжки- дорожки,
Ибо как перейдёшь, так виноват будешь,
Поймаем, зарубим,
Посечём на дробный мак,
Рассеем на три дороги,
Там вырастут три травиночки:
Любисточек,
Василёчек,
Барвиночек (22. С. 159).
Обратите внимание: провинившихся девушек наказывает мифологический персонаж в образе ряженых, килы, Кобылячьей головы (см. выше). А юношей наказывают сами девушки, видимо, имевшие на то полномочия в данный период, что подтверждает пословица: «Женское лето по Петров день».
И действительно, по многочисленным данным этнографов прошлых веков (на которые сегодня почему-то не очень обращают внимание), в троицко-купальской обрядности главную общественную роль играли молодые женщины и девушки.
Об этом говорится в купальских песнях:
Выйди, молодице, на улицю,
Розведи нашу купалицю (22. С. 157).
Не девка огонь раскладала,
Сам Бог раскладал (Белоруссия, Югославия. 34. С. 317).
Повсеместно на Купалу собирали зелья (травы, цветы, ветки), которые были целебными именно потому, что в них находились живые души. Их собирали, разговаривая с каждым растением, прося прощения за нанесённый ущерб. При таких условиях массовая заготовка сена была невозможна.
Прекращение пения кукушки, обряд «похорон кукушки» сигнализировали о конце опасного периода выхода душ покойных. Такое же значение имели проводы русалок. Уход этих душ с Земли, из деревьев и трав позволял начать покос. Этим рубежом были Пятровки: «С Петрова дня красное лето, зелёный покос».
В русском фольклоре песни Петрова дня не выделяются на общем фоне. Зато на Украине и в Белоруссии они составляют отдельный цикл, как, например, Купальские, Жнивные песни. Каждой русской пословице о Пятровках находится смысловое соответствие в украинских песнях — «Петрiвках», что говорит об общем древнем фонде этих представлений:
…ячмiнь колос викидае —
соловейко голос покидае,
а як петрiвочка минается,
сива зозуленька ховается…
***
До Петра зозулi да кувать, кувать,
До осенi дiвцi да гулять, гулять.
До Петра зозуля накувалася,
До осенi дiвка нагулялася.
***
Уже петрiвочка да настае,
Дiвочий голосок да прибувае.
Уже петрiвочки двi недiлочки,
Нема голосочку половиночки.
Уже петрiвочки да не дня й не дня,
Уже голосочку да й нема, нема.
***
…А ще моя невiсточка в коморi,
А вже косарi на полi.
Зiйшло сонечко та й грае,
Встала моя невiсточка та й лае.
Зiшло сонечко та й скаче,
Встала моя невiсточка та й плаче (22. С. 138 и далее).
После Пятра кончалось молодёжное веселье и начинался покос и страда, во время которой праздновался мужской праздник Перунов день. А осенью наступало «бабье лето» — время сбора созревшего урожая, время зрелых женщин — «баб». Ассоциации времён года с человеческими возрастами были не теоретическими построениями, они находили своё практическое выражение в праздниках.
Сроками начала покоса объясняется различие русских и украинских сроков завершения Пятровок. На южных территориях первый покос начинался сразу после Купалы, а 29 июля — второй. То есть покос там начинался раньше, чем в России, и Петровки заканчивались раньше, но тоже как раз перед косьбой. Мы видим крепкую «сцепку» конца Пятровок с покосом.
Известно, что в начале новой эры восточнославянские племена располагались южнее территории современной России, однако утверждать, что в то время Купало-Пятровские праздники соответствовали современному украинскому варианту (в смысле сроков наступления покоса), нет оснований. Дело в том, что климат изменчив, например, пятый век новой эры был самым холодным за несколько последних тысячелетий. В восьмом веке Чёрное море замерзало так, что Босфорский и Керченский проливы переезжали на санях. Скорее всего, именно русский вариант: Купала, а через пять дней Пятровки — наиболее архаичен.
Для раскрытия формы и содержания языческих Пятровок очень важна белорусская сказка «Гвiдон Самiхлёнавiч». Сказка эта уникальна тем, что только в ней широко распространённый сюжет похищения героем одежды у купающихся дев-птиц приурочен к конкретному времени:
«…Пошли они (три сестры) в чисто поле, в зелёную дубраву, около синего моря. Было время Петровок. Захотелось им покупаться, в синем море покрасоваться. Тогда они самоцветное платье скинули и обратились сизыми утками, поплыли по морю, стали купаться» (5).
Можно ли с уверенностью говорить о связи народного праздника Пятровки со сказочным эпизодом купания дев-птиц на основании одного-единственного свидетельства? Нельзя, но если вспомнить, что купальный сезон в восточнославянском календаре длился недолго: начинался с Купалы (24 июня) и заканчивался на Ильин день (20 июля), — то убеждаемся в том, что на Пятровки (29 июня) действительно можно купаться. В сказке активность у воды и в воде проявляют женщины, а согласно вышеприведённой пословице, «женское лето по Петров день».
И без сказочного свидетельства о том, что «дело было на Пятровки», мы приходим к тому, что купания с превращением дев в птиц могли иметь место только в пять дней после Купалы, с 24 по 29 июня.
Всё это идёт вразрез с «официальной» фольклористикой, которая считает, что в волшебных сказках нет реальных мест и реального времени.
В украинских Купальских песнях находим тот же, что и в сказках сюжет купания птиц и девиц:
Ой на Купайла, на Iвана
Там ластiвонька купалася,
На берiжечку сушилася,
Дiвка Настуня журилася…
***
Ой загорожу тёрном речку,
Пущу лебедя с лебёдкой,
А сама буду дивиться,
Как будет лебедь купаться,
Над лебёдкою витаться.
То не лебедь с лебедицей, —
Это парубок с девицей (22. С. 163, 168, 176).
В украинских Петровских песнях:
Летели гуси слободою
Закричали над водою:
— Ой, не стой верба над водою,
Не пускай веток по Дунаю —
Горька вода под тобою.
Стань себе, верба, … в барвиннике,
В запашных васильках,
В густых любистоках (22. С. 139, 140).
Это намёк на прекращение купания и обращение внимания на травы, покос которых начинался на следующий день после Пятра.
По украинским Пятровским и Купальским песням можно реконструировать действа этих периодов. До Купалы на Пятровки деревцу (вербе, дубу, ольхе, клёну, берёзе) предлагается отойти от воды и стать на улице, где челядь собирается, то есть быть в центре событий (22. С. 140).
И дерево «приходит», то есть его вырубают и ставят:
Ой наши хлопцы…
Нам помогали,
Нам купальницу вырубали (22. С. 157).
Поставлю я вербу,
Сама сяду сверху.
На вербе я сижу, гукаю,
Девчат на Купалу скликаю (22. С. 158).
Это было не просто воткнутое посреди улицы дерево:
Около Купалы обметено,
Ещё и барвинеком оплетено,
Ещё и васильками обтыкано,
Нас на Купалу выкликано.
Созывались не только девки:
Наша Купала с вербы, с вербы,
А ты, Иване, приди, приди.
Не пришедшие проклинались участниками:
Кто не выйдет на Купалу,
Что бы ноги поломало!
С другой стороны, девушек и молодок не пускали родственники:
Молодая молодица,
Выйди на улицу,
Запевай девкам купальницу.
— Как же мне выйти,
У меня … свекруха лихая,
В комору запирает,
На улицу не пускает (22. С. 156).
В украинской легенде девушка по имени Зозуля (Кукушка) была проклята матерью за то, что не работала, а залезла на дуб и заигрывала с хлопцами, говоря: «Ку-ку! Ку-ку!» Мать рассердилась и сказала: «А кувала б ти доки свiту й сонця». Зозуля услышала проклятие матери, заплакала, а слёзы капали на дубовые листья и застыли навеки (49. С. 268, 269).
В этой легенде явно отражен Купальско-Пятровский ритуал: Поствлю я вербу, сама сяду сверху… Наша Купала с вербы, с вербы, а ты, Иване, приди, приди.
Мы не будем касаться архаичной мифологической символики птицы (Богини) на верхушке дерева, она хорошо известна. Обратим внимание на то, что представленные здесь образцы фольклора, собранные в XVIII, XIX и начале ХХ века, отражают ту стадию родового общества, когда в обряде участвует уже не всё общество, но только его часть, и эта часть — молодёжь. Переход общинных ритуалов в молодёжные игрища, а затем и в детские игры тоже хорошо известен. И это значит, что вопреки широко распространённому мнению о том, что традицию из века в век сохраняли старики, по крайней мере последние триста лет народные обряды живут исключительно благодаря молодёжи вообще, и женщинам в частности. Они, несмотря на проклятия матерей, наличие грудных детей и злющих свекровей, шли и «делали жизнь» по лучшим индоевропейским образцам.
Бесценную информацию о глобальной значимости женского поведения донесла до нас белорусская сказка «Золотое перо», в которой герой посылается узнать, отчего у пана сено сгнило:
«А того у пана сено погнило, — говорит старый человек — это был Бог, — что Девка Полонянка двенадцать дней купалась в море да гуляла с солнцем. От этого не было солнца, шёл дождь, сено и погнило» (5. № 78. С. 363).
Напомним, что «с Петрова дня красное лето, зелёный покос», то есть забавы Девки Полонянки происходили тогда, когда сено имело место быть, то есть трава была скошена, то есть после Пятровок, тогда, когда «женское лето» кончилось, а это не есть правильно и повлекло за собой неприятные последствия.
Девка отвлекала Солнце, нужно ли говорить о том, как Его присутствие необходимо для превращения скошенной травы в сено? Три недели от Пятра до Ильина дня — время заготовки наиболее ценных в питательном отношении кормов. До Ильина дня сено сметать — пуд мёду в него накласть, то есть получать в течение года вкусное молоко, масло, сыр (39. С. 275). Это было очень важно, так как основной статьёй хозяйственной деятельности Руси ещё со славянских времён были меха, зерно, продукты молочного животноводства и пчеловодства.
Праздность в трудовые общественно значимые дни была недопустима. Мало того, откладывались и некоторые виды обычной трудовой деятельности, например, стирка белья. Возможно, причиной этого была не нехватка времени, а сознательное сокращение контактов с водой, магический приём отвода нежелательного дождя. Ополоснувшись в реке после потогонной работы, крестьяне надевали чистое бельё, а грязное накапливалось до лучших времён, в семьях собиралось до двух десятков мужских и женских рубах, которые приводились в порядок женщинами после страды (Смоленская обл.).
На таком фоне поведение Девки Полонянки выглядит вопиющим. Тяжести проступка должно соответствовать и наказание. Известный обычай обмазывания дёгтем и обваливания в перьях гулящих, по видимому, изначально был знаком того, что девки «лебедили» не вовремя, после Пятровок, отвлекая мужское население от общественных работ.
Интересную информацию даёт С. В. Максимов: «в Тамбовской губернии верят, что речное купанье в Петров день очищает от любодейных грехов» (26. С. 249). Грехов, которые были набраны, по христианским понятиям, «под ракитовыми кустами» на Ярилу и Купалу — праздники, известные своей вседозволенностью в сфере общения полов.
Точно так же крещенское купание очищало от грехов, набранных в дни Святочных бесчинств. Вообще параллель между Зимними и Зелёными Святками замечена давно, но аналогия между завершающими эти дни ритуальными купаниями отмечается впервые. Это наблюдение достаточно важно, потому что указывает на дохристианскую древность обряда омовения после зимнего солнцестояния.
Так как эротическая сцена купания дев-птиц с подсматривающим за ними героем распространена в восточнославянском фольклоре повсеместно, а также учитывая летописные свидетельства о языческом свадебном обряде умыкания девиц у воды — тамбовское поверье необходимо рассматривать не с точки зрения христианской этики, а в свете языческого миропонимания.
Малая ночка Купала,
Где ты, дивчина ночевала?
Ночевала ночку в барвиночке,
Вставай, козачёк недоверчивый.
Ночевала другу в тёмном лугу,
Вставай, козаченько, неверный друг.
Ночевала третью под ожиною,
С верным дружком (22. С. 168).
Здесь нам интересно то, что говорится о нескольких ночах в саду, на лугу и на поле, а ведь собственно Купальская ночь — одна. Конечно, тут можно увидеть свойственное фольклору утроение значимых событий, однако всё вышеизложенное говорит за то, что вольности в сфере общения полов были возможны несколько ночей подряд — от Купалы до Пятровок. (Выше отмечалось, что само число 5 несёт в себе значение союза, в том числе и брачного).
Также в вышеприведённой песне знаменательно и то, что в садовых цветах и луговых травах девка ночует с любовником, устойчивым эпитетом которого в народной традиции является неверный, а вот в окультуренном пространстве поля, самого значимого для всего коллектива, ночь проводится с мужем, так как выражение «верная дружина» дословно означает супруга.
Всего лишь две попытки — и девушка на правильном пути! Купание на Пятровки прятало концы в воду, смывало неудачное прошлое. Такие попытки увеличивали шансы молодёжи (не только девушек!) получить в браке подходящего в сексуальном плане партнёра.
Целых пять дней в году!.. Дело «пахнет» нешуточным ритуалом. Его внешние проявления и внутренняя суть хорошо просматриваются в эпизодах купания дев-птиц волшебных сказок:
Главный герой (Гвидон в нашем варианте) намочил одежду купальщиц, оставшуюся на берегу, и спрятался. Девы-птицы вышли из воды и традиционной словесной формулой обратились к озорнику: «Коли старше нас, будь нам отец, коль моложе — брат, а если ровня — то будь нашим мужем». Гвидон отозвался и девы заявили: «ты есть муж наш!».
Вот так — сразу, и заметьте, один на троих.
Далее Гвидон расспросил девиц об их талантах. Первая похвалилась умением шить, вторая — готовить. Гвидон уточнил у них: «На сколько времени берётесь?» Они ответили: «На всю жизнь, до конца века своего!».
Похоже на брачный договор.
Гвидону ответы понравились: «Ну, становись на правый фланг! Да, мне такие люди очень нужны». А третья девица пообещала родить сынов: «во лбу солнце, на затылке месяц, руки в золоте, ноги в серебре»… «И законный брак божий он с Настасей-Прикрасей принял» (5).
Законный — с третьей, но старшая и средняя сёстры тоже при нём остались.
Все сказки, имеющие эпизод встречи героя с девой-птицей, заканчиваются браком (иногда недолгим), но не все эти браки описываются полигамными. Однако во всех вариантах этого эпизода девица смела и своенравна, хотя и странным образом зависит от целостности своего наряда.
Давно замечено, что всё это напоминает южнославянские сказки и предания о Вилах — прекрасных девах с золотыми съёмными крыльями, их можно поймать, окрестить и жениться, отобрав крылышки, но они при любом удобном случае делают себе новые крылья или находят старые и улетают, бросив мужа и даже своих грудных детей. Эти золотые крылья роднят Вил с немецкой Фрейей и валькириями, которые имели сорочки с перьями иногда лебедей, а иногда орлиные. Как раз орлиное оперение и было золотым.
Речь идёт об орле-беркуте Golden Eagle, распространённом по всей Европе от тундр до степей. При полёте этой птицы, обладающей золотыми перьями на затылке, буквально вспыхивающими на солнце, возникает феномен нимба или короны, венчающей голову птицы. В глазах древних обитателей Европы этот природный аспект мог являться серьёзным аргументом в пользу божественного или хотя бы королевского достоинства упомянутого вида птиц (24. С. 320).
Каким образом делались пернатые рубашки, подробно рассказано в одной из белорусских сказок, об этом — ниже.
То, что Вилы были знакомы и восточным славянам, известно из христианских поучений против язычества.
Интересно, что южнославянские крылатые, свободолюбивые Вилы-орлицы тяготеют более к верху — горам, дождевым облакам, горным источникам, то есть вертикалям, и праздник св. Петра приурочивается у этих народов к горам:
На горе стояла рано утром Вила,
Облакам румяным Вила говорила…» (28. С. 44—45).
И в другой сербской песне:
Стала молния дары раздавати
Дала Богу небесные высоты,
Святому Петру Петровские вершины,
А Иоанну льда и снега,
А Николе на воде свободу,
А Илье молнии и стрелы (52. С. 222).
Восточнославянские же девы-птицы (утицы, лебеди, колпицы и др.) неразрывно связаны с низом, водой на земле — морем, озером, рекой, простирающимся горизонтально. Петров же день на Руси считался праздником рыболовов, тоже без водных пространств не обходящихся.
Крупнейшая славянская Богиня Макошь покровительствовала водам и влаге, прядению, отличалась свободным поведением и «заведывала» пятым днём недели, а её имя упоминается в русских летописях рядом с именем Вил.
Разницу мест «обитания» аналогичных персонажей можно объяснить следующим образом. У южных и западных славян Мокоши как покровительнице прядения посвящались высоко (в горах) расположенные пастбища для овец. И. Янко предлагает трактовать Mokosin как обозначение верха (vrch kopec) (21. С. 191). У восточных же славян основным объектом прядения был влаголюбивый, низинный лён («Лён зеленой, при горе, при крутой…»).
Привлекая данные славянской топонимии к реконструкции основного мифа, Иванов и Топоров делают вывод о том, что сопоставленность, соотнесённость горы Перуна (и, следовательно, самого Перуна) и горы перуновой жены — Перыни или Мокоши можно рассматривать как свидетельство той стадии эволюции славянской мифологии, когда Мокошь находилась на том же уровне мифологической системы, что и Перун, и, вероятно, должна пониматься как член его семьи… Другой этап, так сказать, после развенчания Мокоши — отражён парами топонимов типа Перунова гора, но Мокошево болото (низина, вода и т.п.) (45).
В фольклоре западных славян аналог Макоши — святые Барбара и Люция — имеют утиные лапки и шипят на неумех как гусыни. Имена этих святых переводятся как «дикарка» и «сияющая». Глубокой осенью или в начале зимы женщина, наряженная белой гусыней, обходя дома, произносила текст: «иду, иду, ночи выпью», то есть водоплавающая птица обещала сделать длинные осенние ночи более короткими путём их питья и это, конечно же, желаемое обществом деяние (7).
В украинских же Пятровских песнях, наоборот, женщина просит птицу:
Не спiвайте, та пiвники,
Не вменшайте ночi
Бо вже моi карi очi
Недоспали ночi (22. С. 147).
Здесь яркая «сухопутная» птица петух своим пением делает то же самое и это не приветствуется, так как интенсивность деятельности в весенне-летний период подходила к границам человеческих возможностей, и уменьшение ночного отдыха не давало восстановить силы.
В скобках замечу, что слова петь и пить этимологически близки, на ранней стадии развития мышления (и языка) в процессах поглощения и извергания чего-либо через горло человек не акцентировал различия. До сих пор мы говорим: «песня льётся» и «залил за воротник», то есть разные, с современной точки зрения, действия обозначаются одним и тем же глаголом. Но очень логично, что водоплавающая птица пьёт ночи, вбирает их в себя, а солнечная выпевает их, то есть уменьшает, расширяя светлое пространство громким звуком. Причём действие солнечной, мужской, агрессивной птицы как бы балансирует на грани полезного и опасного, а действие водяной, женской, хтонической птицы — абсолютно положительно. Лично я не перестаю поражаться точности передачи тончайших оттенков смысла в народном творчестве.
В белорусском варианте сюжета с девами-птицами говорится, что они «вихрацца спяваючы» (5. С. 81). Запрет производить такие действия (кружиться и петь) после самых коротких ночей, очевидно, возник из идеи, что и девы-птицы могут повлиять на долготу ночи, то есть на суточный ход Солнца.
Ни в одной из восточнославянских сказок девы-птицы не названы непосредственно Вилами, но связь с южнославянскими крылатыми девами очевидна и доказана ещё пару веков тому назад (см. об этом А. М. Лобода, А. Н. Веселовский и др.).
Однако утверждаемая некоторыми исследователями идентичность Вил и Русалок необоснованна, хотя у тех и других есть сходные функции, на наш, нынешний взгляд. Анализируя фольклор, необходимо помнить, что современные классификации, то есть объединение объектов по сходным признакам, отличны от традиционных, древних. Сходство, которое нам кажется принципиальным, в старину могло восприниматься как не очень важное, а значимым могло быть совсем другое, например, различие. Посмотрим, чем отличаются эти персонажи.
Русалки, по большому счёту, нелюди — либо утопленницы, либо дикие лешачихи с огромными грудями, закинутыми за спины, голые или в чужих рубахах, которые они выпрашивали у людей. Девушки оставляли русалкам свои рубахи на берёзах в Зелёные святки. Вилы же, как и девы-птицы наших сказок, имеют собственные, особенные рубашки. Когда эту одежду у них крадёт молодец, Вилы просят вернуть своё, а не клянчат, как русалки, чужое. Понятия своего и чужого в народной культуре имеет принципиальное значение:
Не форси, залётина, на те кофта тётина,
А штаны-то дядины, Христа ради дадены!
Русалки нагло пристают к мужчинам, склоняют их к сожительству. А девы-птицы — совсем наоборот: они красуются, но не пристают, мужчины сами ищут их внимания, Вилы придерживаются хоть странных, но обетных правил (тот, кто украл крылья становится мужем), аккуратны в одежде. В слаженных действиях дев-птиц, валькирий и Вил чувствуется некая организация, русалки же деструктивны и хаотичны.
Деятельность Белых Вил словенских сказок с русалками не вяжется никак.
Например, в сказке «Гусочки-голубушки»: «…Глядит (парень): одна за другой, одна за другой так и залетели (гусочки) в ту баню в сени. Как влетели, тот час перья с себя сняли … и в пучочки (кучки) положили каждая своё…» (5. С. 78).
У русалок же ни о каком строе в передвижении и порядке в одежде не может быть и речи — они спонтанны, всё рвут и портят: «…парень видит, что его догоняют (русалки), бросил одни постолы. Схватили постолы русалки, стали примерять себе на ноги. Одна примерит, другая схватит, меряет. Примеряли до тех пор, пока не изорвали… Тут они его совсем было схватили, да парень догадлив был, взял да шапку свою им бросил. Ну, интересно русалкам было померить шапку. Меряют они, смеются, а парень во двор к себе влез». («Одноглазый чёрт» // Восточнославянские волшебные сказки. М., 1992. С. 93).
В одной белорусской русальной песне говорится о невозможности контакта между русалкой и персонажем Пятрища, которая(ый?) охраняет окультуренный локус поля от диких выходок русалок:
Ходит русалка по улице,
Зовёт Пятрищу к себе на праздник.
— Ходи, Пятрища, ко мне на гулянье.
— Не пойду я, русалочка,
А не пойду: тёмна ночка.
А буду жито охранять,
Чтоб русалочки не ломали (23. С. 377).
В севернорусских вышивках фигура женщины в охраняющей посевы позе (руки долу) трактуется Б. А. Рыбаковым как изображение Мокоши, приуроченное к периоду «макушки лета». В народном творчестве связь Купалы и Пятра очевидна:
Сонейка, сонейка, Ян з Пятром ходзяць,
Сонейка, сонейка, да па межах ходзяць,
Сонейка, сонейка, да жыта глядзяць (23. С. 391).
Выражения «ходить», «гулять» вдвоём, да ещё в жите, в традиционной культуре имеют чёткий эротический подтекст. Парочки, состоящие из лиц мужского пола, осуждались и высмеивались:
Что ж вы, пареньки, вдвоём, ходите и ходите,
Вы доходитесь, ей-богу, так, что оба родите!
Очевидно, что в вышеприведённой мифологической паре Ян з Пятром Пятро — это та же Пятрища, Пятница — Макошь.
Кстати, происхождение первого имени этой парочки — Ян (Иван Купало) тоже берёт начало в дохристианской, общеиндоевропейской древности. Этот славянский мифологический персонаж родственен римскому двуликому Янусу — ключнику, открывателю дверей, впускающему новый год (зимнее солнцестояние), смотрящему своими лицами на две половины солнечного года, а также персонажу балтийского фольклора Янису-Юмису, который не был двулик, но имел сестру-близняшку Юмичку. Эта разнополая двойня балансировала на грани инцеста, точно так же, как купальские персонажи Иван да Марья.
Итак, мы отделяем русалок от Вил, хотя и те и эти имеют отношение к воде и весенне-летним праздникам. Как гласит ныне малоизвестная русская пословица, не всё то русалка, что в воду ныряет (40. С. 207). На фоне общей восточнославянской основы Купало-Пятровского ритуального купания вырисовывается название девушек — участниц обряда и их святых покровительниц, возглавляемых Богиней: Вилы и Пятница-Макошь, и их зооморфная ипостась — птицы, имеющие отношение к воздуху (верху) и воде (низу), и их функции — помимо прочего, возможность влиять на результаты хозяйственной деятельности людей и активность демонов. Обратим внимание на то, что и мифологические персонажи — помощницы Богини, и реальные девушки, практикующие обрядовые купания, называются одинаково — Вилы. У русалок же нет предводительницы. Кстати, в народной традиции достаточно часто в русалок рядились парни и пугали девок, этим подчёркивалось различие русалок — демонов и девушек — людей. Представить же себе юношу, наряженного в Вилу или валькирию, невозможно, точно так же, как невозможно представить себе женщину, изображающую Перуна. Гендерные роли некоторых положительных мифологических персонажей изменить невозможно, русалки же не входят в их число.
Рассмотрим значение слова «вила». Оно родственно словам «вилять», «виться», то есть гнуться, кружиться, ходить неровно, и «развилка», «вилы» (орудие), то есть нечто двоящееся, троящееся, изогнутое. В ментальном плане — это раздвоение личности, дискретность мыслей, головокружения, потеря сознания, то есть безумие, сумасшествие, колдовство. Как было отмечено в начале работы, в некоторых славянских языках слово вила имеет именно такое значение.
Макошь же связана с мерцанием, миганием, вспышками света, зыбкостью видения со стороны наблюдателя-человека, причём Богиня в момент наблюдения может быть и неподвижной. Она может наслать на человека болезни глаз и головы, то есть нарушить его объективное восприятие действительности (20 и 7).
Сравнив эти похожие качества Макоши и Вил, мы обнаружим, что «неуловимость» Богини связана с несовершенным восприятием самого человека, который не может постигнуть Божественное во всей полноте. Макошь, если не захочет того сама, физически недоступна человеку, её можно «поймать» только сердцем. А девы-Вилы сами, своими движениями, голосами, своими рукотворными «золотыми» крыльями (о них — ниже) создают иллюзию воздушной неуловимости, блеска, а на самом деле физически вполне доступны, но их сердца и мысли — неуловимы для мужчин. Мы видим, что Макошь и Вилы — зеркальное отражение друг друга. Смотрясь в водную гладь Вилы видят себя Макошью, а Макошь проявляет себя девами Вилами. И случается это чудо на Пятровки, в пять дней и ночей летнего солнцеворота.
В народном календаре отмечается дата, близкая к весеннему равноденствию — 25 марта (Благовещенье). По поверьям, в этот день нельзя тревожить, пахать землю, нельзя заплетать волосы, завивать гнёзда, необходимо выпускать птиц из клеток. Все эти магические приёмы применяются в момент человеческого рождения для облегчения родов. Богиня Макошь есть антропоморфная ипостась Матери Сырой Земли. По человеческим меркам, рожающая на весеннее равноденствие должна зачать как раз в дни Пятровок. Эта беременность Макоши, судя по всему, — от Солнца, то есть «нагулянная», так как в реконструкции «основного мифа» Макошь жена Перуна. Возможно, празднование Масленицы в одной из своих составляющих есть пожелание того, чтобы эти роды прошли как по маслу. Кого же рожает Макошь от Солнца? То, что вылезает из Земли в конце марта — первая травка на проталинах, подснежники, весенние грибы строчки, некоторые насекомые — именно те мифологические реалии, в которых Перун превратил детей Макоши (45).
Видимо, и дети людей, родившиеся в конце марта, то есть зачатые в Купало-Пятровский период, считались детьми Солнца. Отголоском такого представления служат строчки С. Есенина: «родился я с песнями, внук Купальской ночи, сутемень колдовская счастье мне пророчит…». Это говорит о том, что и в начале ХХ века в народной среде, из которой вышел великий русский поэт, интересовались временем своего зачатия и зачатия своих родителей, и если оно совпадало с большими праздниками, этому придавалось магическое значение. Вероятно, и титулы типа Красно Солнышко или Колаксай были даны их носителям не только за красоту, но и по обстоятельствам места и времени их зачатия (не рождения!). Выявляется ещё одна параллель с древнеиндийскими народными поверьями, в которых важную роль в судьбе человека играло именно время его зачатия, с этого момента отсчитывался возраст человека, в благоприятные дни брачные пары целенаправленно старались «создать зародыша». Причём традиция эта жива до сих пор. В 1991 году в Смоленской области из уст Ивановой Е. А. (1915 г. р.) был записан следующий текст: В какой день зачать ребёнка… — мы не гадали, а знавали. Вот на Купалу в Иванову ночь зачнёшь, богатырь будет, а в Святую Троицу — богобоязен станет. На ущербе молодого месяца зачнёшь, болезен будет, а при полной луне — здоров и богат. И на небо на частые звёзды взглядывали и зори высчитывали. На вечерней заре зачнёшь, дитё угрюм и зол родится, на утренней — весел и добёр будет. В полдень зародится, будет ленив, а в полночь — работлив (30. С. 16, 17).
Отмечаемые российскими этнографами предшествующих веков широко распространённые обычаи «половой распущенности» на праздники Ярилы, Купалы, Пятровок, помимо прочего, есть отголосок некогда сознательного желания иметь «чудесных», богоподобных детей, то есть сильных магически, физически и морально, а значит, наиболее полезных для родового общества. Такой подход возносит половую активность в определённые дни до уровня общественно значимой функции, а не просто приятного времяпрепровождения.
Судя по всему, Макошь «погуливала» и с Ветром. В одной украинской песне приводятся размышления о том, почему Бог Посвыстач не помог: …спал, или с Макошью гулял? (44. С. 391). Этот текст многие учёные считают подделкой, однако, вспомнив народное выражение ветром надуло — о внебрачной беременности, а также ветренний, ветренница — о гулящих, сомнения в подлинности песни можно отвергнуть. Но это были не ритуальные гулянья и их последствия осуждались. Имена детей, рождённых от таких связей, несли в себе грубовато-насмешливую семантику: былинный Сколотник, сын Ильи Муромца, прижитый в полевых экспедициях, от сколотить — взбить в ступке пестом, сравни диалектное сколотное — пахтанье; ту же метафору несёт имя-прозвище западнославянского князя Прибина — от взбить (для того, чтобы русскому уху стал чётко различим смысл прозвища незаконнорожденного князя, можно вставить четвёртой букву «е»).
Тем, кто может посчитать, что в данной статье слишком «заострены» вопросы секса и эротики, отвечу словами Г. Якутовского: В мифологических сюжетах эротика как раз и является наиболее часто используемой темой, обходя её, собиратели фольклора обедняли и без того мало сохранившееся древнее мировоззрение (9. С. 18). Я всего лишь пытаюсь восполнить пробелы.
В сообщённом Максимовым поверье об очищающем от любодейных грехов купании в Петров день говорится, скорее всего, о том, что Пятровки были днями, когда по обычному праву молодёжи можно было, так сказать, вершить «лады у воды», причём женщины активно в хорошем смысле «выставляли себя на показ».
К чему вело нарушение сроков этой активности, мы видели в вышеприведённой сказке «Золотое перо», в которой Девка Полонянка после завершения «женского лета» «двенадцать дней купалась в море да гуляла с солнцем. От этого не было солнца, шёл дождь, сено и погнило».
Эти действия Девки Полонянки по форме (купание) и сути (вредительство) совпадают со зловредными поступками былинного персонажа «Марья лебедь белая, а й подоленка да королевична», которую Потык встречает, охотясь у моря «в заводях». (Гильф. С. 150).
Заводь это тихое, укромное место, в отличие, например, от плёса — открытого, волнующегося пространства вод. В этой связи вспоминается топографический объект в лесостепной части междуречья Днестра и Днепра, близ которого имеются могильники IV—V веков н.э., черняховской археологической культуры Вилы Яругские (36. С. 204, 205). Слово яруга означает «овраг», укромное местечко, подходящее как для отдыха перелётных птиц, так и для затаившихся ловцов.
Девка вообще, и сказочная в частности — становится полонянкой, то есть пленницей, в результате поимки, охоты. В начале этой работы упоминалась связь слова «вила» с бегом (убеганием и настиганием) и поимкой. В этой связи очень интересен локальный обычай, бытовавший в одном из сёл русского Севера.
Здесь на Петровское заговенье рядились: изображали чёрта, лешего, охотников. Нарядившиеся охотники сетью ловили молодок (16). По многочисленным фольклорным данным С. Дмитриева делает вывод о том, что указанный район заселили выходцы из южных районов Руси. Напомню, что сетью ловили и перелётных птиц.
Вот и былинная Лебедь белая встречается герою на охоте. Подол — родина невесты Потыка, это юго-западные земли Древней Руси, то есть близкие к морю. Сказки, былины, песни, обычаи, приуроченные к Купале и Пятровкам — упорно указывают на территории, близкие к Северному Причерноморью.
В концовке белорусской сказки «Стеклянные горы» (вариант сюжета «муж ищет исчезнувшую жену») место указывается достаточно ясно. Вообще, концовки восточнославянских сказок, по сравнению с конечными формулами сказок других народов, оказались особо богатыми и очень искусно варьирующимися … в пределах традиционной формулы, то есть более информативными, а информацию полезно «мотать на ус», а не только восхищаться красотой её изложения (40. С. 328 со ссылкой на Ю. Поливку).
Итак, герой нашёл у Кащея украденную жену: …Иван знайдён поехал уже с женою. Только неизвестно, куда он поехал: чи в Стеклянные горы, чи к батьке и матери. Вот я был с плотами за Киевом, спрашивал, да не допытался, хотел к нему в гости зайти (5. С. 77).
Плоты, как известно, сплавляют по течению, следовательно, быть с плотами за Киевом означает быть в нижнем течении Днепра, впадающего в Чёрное море. Сказка записана в конце ХIХ века в Белоруссии, её рассказчик — крестьянин, скорее всего, неграмотный не имевший понятия о Киевской и докиевской Руси, знал точно, в каких местах живут родители героя древней сказки, то есть где Родина Ивана Знайдёна (варианты: Найда, Найдён), и это место, близкое к северному побережью Чёрного моря.
Вернёмся к Пятровкам. Девка купалась в море и гуляла с Солнцем не вовремя и не «правильное» количество дней (двенадцать), а вовремя — это пять дней Пятровок, тогда, когда Солнце «играет». Интересно, что растение Петровы-батоги (Cichorium intybus) — голубой цикорий, иначе называется «солнцева сестра». Эти голубые цветы отсылают нас к цветущему голубым льну, морю (то ли поле, то ли море — синий лён), к голубым головным уборам женщин, надеваемым только на Купалу, а во вселенском масштабе — к воде, небу, голубой планете Земля. Взаимозаменяемость, связка имён Петра и Солнца обнаруживается в славянских названиях божьей коровки: помимо прочих и Пятро, Петрик (болг., укр.), и Сонечко (укр.). По южнославянским данным реконструируется факт равнозначности солнцевой сестры и Макоши (46).
Эти данные говорят о том, что Пятровки были праздником Макоши и Солнца. Академик Рыбаков, исследуя русские вышивки, приуроченные к Купале, разбирая конкретный пример, приходит к выводу: Вышивка своей манерой изображения уравняла Дажьбога с Макошью. Так же были уравнены они и авторами летописей и поучений, одинаково упоминавшими и бога солнца, и богиню плодородия и счастливой судьбы (34. С. 502).
Термин равны не означает тождества. В народной культуре важную роль играет равенство, например, возрастное, половых партнёров, об этом говорит устойчивая сказочная формула: если ты стар человек, будь нам отцом, если мал — братом, если ровня — мужем.
Солнце (Даждьбог) в этом смысле ровня Макоши, оно возможный брачный партнёр, но оно женихалось, играло со своей сестрой. Дело осложнялось ещё и тем, что Перун (муж Макоши) и Даждьбог — Сварожичи, не обязательно родные братья, но родственники. Этот запутанный клубок брачно-родственных отношений разрубил Перун, наказав Макошь и её подозрительных в отношении отцовства детей, чем надолго установил патриархальный взгляд на вопросы пола и родства.
Однако низвергнутая Макошь и Солнце остались друзьями. В словенской и хорватской сказках волшебница Мокошка, умеющая превращаться в птицу, змею или красную девицу, живёт среди топей на краю болота, куда осенью спускается Солнце. Там, у Мокоши, Солнышко и проводит все долгие зимние ночи. Волшебница заботится об ослабевшем зимнем Солнце, лечит его целебными травами и заговорами, и к весне оно опять становится сильным и могучим (17. С. 29. Сказка «Солнце-Сват…»).
Купальский мотив инцеста широко отражён в фольклоре, его земные персонажи носят имена Ивана и Марьи (с вариантами). Мы видим, что на мифологическом уровне Макошь и Солнце явили прецедент, который, дробясь многократно, повторялся в мифологии (Купала с Мореной и др.). Макошь была активисткой и зачинщицей этой ситуации.
Какие восхитительные, высокохудожественные формы принимала женская, подражающая деяниям Макоши активность, всплеск которой был на Пятровки, можно узнать из сказок: «Вдруг прилетают двенадцать голубиц; ударились о сыру землю и обернулись красными девицами… Поскидали платья и пустились в озеро: играют, плещутся, смеются, песни поют» (3. № 222). Или: «— Будешь ты идти — будут лететь три голубки. И сядут они около моря, пойдут мыться-белиться около моря — девки такие, что разлюбоваться» (5. «Стеклянные горы»).
Купальские песни о том же:
Наша Хросина купавочка
Посерёд моря купалася,
На бережку белилася… (22. С. 163).
Неудивительно, что Солнце не устояло, тем более, что сладить с красавицами в эти дни можно было без проволочек типа сватовства, смотрин, свадьбы:
Ой на Петра, на Купайла
Вышла Параска та як пава.
А на неё хлопцы заглядаются,
Зацепить стесняются.
Один хлопец не стыдился,
Взял за руку — обручился,
Взяв другую — повенчался (22. С. 168).
Вопросы соперничества в эти дни снимались так же просто:
— Не деритесь, не ругайтесь,
Я вас обоих люблю,
Ивану ручку дам,
Степанова буду… (22. С. 151).
Важную роль в развитии действия играет наличие кустов (ракита, ива, калина, редко — дуб с дуплом), в них прячется герой сказки. В русских и белорусских играх Яше-Ящеру, сидящему под ореховым кустом, предлагается: бери себе девку которую хочешь…
Те же кусты мы встречаем в свадебной лирике. В песнях невеста, гуляя, ломает и бросает на землю калину. (Вероятно, от злости на то, что под ней не прячется какой-нибудь шустрый молодчик. Шутка.)
Этнографические данные: Говорят, что в ночь на Купалу ни женщины, ни девки не считают грехом иметь отношения с чужими мужчинами и парнями. Так всю ночь в лесу или на выгоне слышны песни, смех. Одни подходят к костру, кинут в огонь веток, да и пойдут в потёмки куда-нибудь под куст, а другие, обнявшись, идут уже оттуда (41). Украинская сказка: «А купцов сын скорей из-под куста, да за одежду, да и спрятался опять…», и далее: «Он сразу вышел из-под куста да и отдаёт одежду. А она обрадовалась, так обрадовалась, что и не сказать: ведь перед нею стал такой казак, что краше и в свете не найти!» (11. «Двенадцать уточек»).
Как сказал французский классик, «парень с девкой, и музыки им не надо».
А вот русская сказка: «Царевич скрал у старшей сорочку, сидит за кустом — не ворохнется. Девицы выкупались и вышли на берег, … обернулись птицами и полетели домой; оставалась одна старшая, Василиса премудрая» (11. № 219). Интересно, что сводней здесь выступает Баба Яга: «Иди, дитятко, на море; прилетят туда двенадцать колпиц, … ты подкрадься потихоньку и захвати у старшей девицы сорочку. Как поладишь с нею, ступай к морскому царю…» (Там же).
Так и вспоминаются слова песни: «знала только ночь глубокая, как поладили они». Однако в этой авторской песне описываются предварительные ухаживания, а затем тайная любовная связь, в сказках же — не знакомые друг с другом партнёры достаточно открыто занимаются ритуальным сексом, который впоследствии завершается браком, впрочем, иногда — несчастливым: «Ну и что ж, пошла она нехотя, куда ж ей деваться. Только она всё равно не имела тяги до него. Всё равно тянуло её туда, где все гуси…» (5. «Гусочки-голубушки»).
В подавляющем большинстве сказок девы-птицы прилетают для купания именно к морю, в других вариантах (частотность по убывающей) — к озеру, реке, пруду, воде, в баню. В купальских песнях водоём чаще всего называется просто «вода», но упоминается и море: Около воды-моря ходили девочки.
Вкруг Мареночки — Купало!
Или: Ой Иван, Иванушка,
Не играй конём
По-над морем (22. С. 160, 162).
Вероятно, ритуал зародился у моря, но с течением времени был перенесён в любое место, где есть вода.
В великорусских свадебных обрядах невеста перед венчанием смывает в бане «девичью волю» под фривольные приговоры типа:
Мойся усок, подмывайся усок,
К тебе, мой усок, придёт мяса кусок…
То есть купание девицы связано с эротикой в первую очередь, а с браком — во вторую. То же и в рассматриваемых сказочных эпизодах:
«Отдал он одеяние, она оделася, он за правую руку и повёл. Есть как есть, и приводит её к отцу и матери. Ну, теперь он живёт с нею неделю, или две, или три. Теперь батька говорит: — Что, сынок, женить пора тебя!» (5. «Стеклянные горы»).
Заметим, герой почти никогда не интересуется именем и происхождением понравившейся девицы, а то, что она зачастую оказывается дочерью царя, выясняется позднее. Этот же архетип всплывает в современной охальной частушке, в которой говорится об анонимном половом общении в весенне-летний период под кустом:
На дворе сирень цветёт, ветка к ветке клонится.
Парень девушку е…т, хочет познакомиться.
Вообще, сравнительно молодой жанр частушек (около 200 лет), при всей его, на первый взгляд, глупости, краткостью формы и метафоричностью содержания очень схож с реконструируемыми лингвистами первичными мифологемами-установками. Например, «Знай свой род» — многозначный текст, который можно понимать как «женись на своих женщинах», «рожай (продолжай свой род)» и др. Эта многозначность основывается на том, что индоевропейский корень гн- (жн-, зн-) означал одновременно и женщину, и знания, и род — ген (48). А фраза «Перун попирает Змея» имела значения «верх главнее низа», «Небо вступает в интимную связь с Землёй» на тех же основаниях (земля = змея = низ и т. д.) (20).
Всё циклично, всё возвращается на круги своя — фольклорные формы, моральные нормы. Посмотрите, частушка тоже многозначна, имея и аграрный, и эротический смысл:
Мой забавушка орёт,
Сошка в землю не идёт.
Другая описывает ту же ситуацию, что и в вышеприведённой Купальской песне о трёх партнёрах: я бывало всем давала…
Вот Петровская песня:
Ой когда мы петровочки ждали,
То мы русу косу заплетали.
Теперь мы петровочку проведём,
Мы ж и русу косу расплетём (22. С. 153).
А вот частушка на ту же тему:
Распустили девки косы
И пошли пленять матросов.
К теме «лады у воды»:
Мой русалочку словил,
Эка неурядица.
Два часа вокруг ходил,
И не смог приладиться!
Кстати, в Купальских песнях неудачи бывают и посерьёзней:
Купался Иван, да в воду упал…,
Маринка втонула, плахта зорнула.
Трагедия происходит, если заигравшаяся пара — брат с сестрой, ритуальный блуд имел свои границы. Вот и Макошь была жестоко наказана Перуном, он поразил молнией внебрачных детей, превратив их и её саму в хтонических персонажей (грибы, жабу, божью коровку и др.).
Но вернёмся к нашим сказкам с эпизодом купания дев-птиц. Обратим внимание на очень важную деталь: в сказках прямо говорится о пернатой одежде, наряде, о съёмных крыльях, о способе их сооружения, ношения и хранения:
«Наряжает (чёрт = Водяной царь) теперечи воронами этих (своих) дочерей всех двенадцать и выпускает в окошко… Переперил их голубичями, иным перьём…» (19. С. 172—173). Именно наряжает в перья, а не превращает в птиц.
«…на берегу три пары крыльев, а в озере три девчины купаются» (11. С. 413).
Очень интересную информацию даёт белорусская сказка «Гусочки-голубушки»: действия пойманной замужней девы-птицы, у которой отняли крылья: «И вот она каждый день выйдет, встанет, чтоб её не видели и запоёт: — А гусочки, голубушки, скиньте мне по пёрышку! Возьмут эти гусыни и скинут ей каждая по пёрышку. Вот она и собирает. Не так уж и легко собирать по одному пёрышку. Его ж, пера, много надо. Ну и кидали, может, и год кидали. Она собирала… Что ж, как закончила она эти перья собирать, пух складывать… Как она нацепила эти перья (дословно: «абчапiлася гэтым пер’ем»), так она и полетела, и мужа кинула и эту девчушку (дочь) кинула. Девочка же не научена была как перья сбирать, так она и осталась» (5).
Здесь говорится о пернатой одежде, изготовлять которую можно научиться.
Или, уже в русской сказке: «Девицы выкупались, вышли на берег, начали одеваться, начали навязывать крылышки — у Марьи-царевны пропажа объявилася: нет золотых крылышек» (3. № 213), или «…ударились об пол и сделались красными девицами … крылышки свои на печь положили…» (3. № 214).
Белорусская сказка «Гусочки-голубушки», сцена в бане: «Как влетели, тот час перья с себя сняли, сняли эти перья и в пучочки (кучки) положили каждая своё, каждая в порядке» (5).
Давно доказано, что наличие в ритуальном костюме крыльев или пернатой рубашки напрямую связано шаманскими практиками (см., например, М. Элиаде «Шаманизм»).
Всё вышеизложенное подтверждает очень важный вывод: девы-птицы наших сказок — реальные женщины, а не существа вроде ангелов.
Считать дев-птиц представителями «иного мира», который с таким упоением искал и находил в большинстве волшебных сказок В. Я. Пропп и его многочисленные последователи, — нет никаких оснований. Пора пересмотреть ошибочные, искусственные построения фольклористов ХХ века так же, как была пересмотрена и отброшена «метеорологическая теория» «мифологической школы», ярым приверженцем которой был замечательный собиратель и систематизатор фольклора Афанасьев. Он везде, в любой сказке, былине, пословице видел борьбу солнечного луча с грозной тучей. По его мнению, лучом был Ваня, обманувший Ягу (тучу), запихав её на лопате в печь, образ Сивки-Бурки «…истолковывается Афанасьевым опять-таки как образ бурой тучи, рассекаемой молнией», и так далее, и тому подобное (40. С. 60). Так же и у В. Я. Проппа — много совершенно гениальных открытий, но есть и принципиальные ошибки, непризнание которых тормозит понимание и изучение народного творчества.
Вероятно, в сказочном эпизоде купания дев-птиц мы имеем описание обряда, практиковавшегося некими девичьими сообществами, «женскими союзами» (по аналогии с «мужскими союзами», хорошо известными этнографам), характерной чертой которого являлось наличие перьевого одеяния. Обряда, в котором девы имитировали деяния Богинь, или, если хотите, перевоплощались в них.
В фольклоре имеются некоторые смутные намёки на то, что у славян имелись и «звериные» женские союзы, так же патронируемые Макошью, в частности, росомахи и бобра (бобрихи) — животных, имеющих отношение к воде, но этой темы мы здесь касаться не будем.
Определяются сроки пребывания в «птичьих» женских союзах. Разбирая былину «Михайло Потык», соавторы Фроянов И. Я. и Юдин Ю. И. пишут: «брачное соединение молодых людей происходит в период незакончившейся инициации невесты. В нашем случае этот период определён тремя годами. Обращаясь к отцу, Марья просит:
— Ах ты гой еси, родитель мой батюшка,
Я три года летала-плавала
Белой лебёдушкой,
А и три года спусти меня
Погулять по чистым полям» (51. С. 302—303).
Мы видим, что девица добровольно, но с согласия родителя вступает на свою стезю. И в сказках тоже — девицы неохотно расстаются со своей компанией: «всё её тянуло туда, где гуси». Это очень важно. Именно этот свободный выбор даёт нам право и возможность по-новому рассмотреть весь сказочный массив с эпизодом превращения человека в птицу (животное), выделить в нём сказки, приуроченныё к Пятровкам.
В белоруской сказке «Братья-птицы и сестра» съёмные крылья имеют мужчины: сидела, сидела (сестра за печкой), вот прилетают три птицы. Как влетели, тот час скинули с себя перья и стали такими молодцами! (5. № 20). В разных вариантах этого сюжета (СУС 451) братья могут превращаться также в орлов и волков, наряжаясь в шкуры. Но эти превращения (или переодевания) не добровольные, они совершаются внешней силой — братья прокляты родителями или заколдованы ведьмой, а также они не имеют никакого отношения к воде. Сказки этого вида действительно невозможно приурочить к конкретному месту и времени, события, описанные в них, могли случиться в любое время, с кем угодно и где угодно, они с одинаковой вероятностью могут быть и несколько приземлённым мифом, и приукрашенным отражением реальных событий.
Помимо добровольности превращения, важным отличием сказок Пятровского цикла является и то, что дев-птиц всегда несколько (три, семь, двенадцать, тридцать три, семьдесят семь), они составляют коллектив. Купаться в море девы- птицы приходят (прилетают) всегда строем, одна за другой, у них есть униформа, в сказках говорится, что они похожи друг на друга, но младшая краше всех, это значит то, что девушки одинаково одеты. Всё это несомненные признаки союза. Союз этот свободен для выхода — ушедшую с женихом никто не преследует, не зовёт обратно.
В сказках о свободолюбивых Вилах и девах-птицах чувствуется их некоторое отличие от славянских женщин, упор в этих историях делается на контакты с молодыми славянскими мужчинами. Но это различие славянских женщин и дев-птиц было скорее ментальное, чем генетическое. Истории известны случаи, когда единые этносы разделялись по причине расхождения мировоззрений. Например, некоторые арийцы по каким-то причинам стали считать Богов (Деви) — дэвами, то есть чудовищами; а чудовищ асуров — богами.
«Птичьи» (как и «звериные») союзы, типа описанных в сказках Пятровского цикла (то есть с эпизодом купания дев-птиц), в реальной жизни могли разрастаться, ломать обычные временные и пространственные границы перевоплощений, и становиться новым племенем. Например, западнославянские Лютичи «были» волками постоянно, а не только раз в год на Святки, как остальные славяне.
Можно задаться теоретическим вопросом: а как бы могли назвать славяне первых веков новой эры мужчину, у которого жена Вила? «Вил»? Нет, скорее, «вилец», так как в данном случае муж именовался по яркому роду занятия жены, а не жена по мужу. А всех вместе, скорее всего, называли бы «вильцы». Славянское племя «Вильцы» — действительно существовало. Однако это было западнославянское племя венедской группы (Велеты, по Седову), прямого отношения к Северному Причерноморью не имевшее, если не считать единичных находок антских пальчатых фибул близ Балтийского моря. Впрочем, в более отдалённой исторической перспективе, в данной статье не рассматриваемой, такие контакты вполне могли существовать.
Так что если девы-птицы с родственниками и сподвижниками и пытались выделиться из индоевропейского массива в качестве отдельного племени Вил, удержаться на исторической арене, судя по всему, им не удалось. (А вот, например, родня и последователи хана Ногая стали отдельным народом — «ногайцы».)
В нашей работе «Географическая локализация восточнославянских сказочных объектов», в числе прочего, сделана попытка более точно разобраться в изначальной этнической принадлежности дев-птиц. Эта информация интересна для более полного представления о зарождении и развитии праздника Пятровки.
Остатки знаков отличия женских союзов дев-птиц сохранились в птичьих названиях восточнославянских женских головных уборов — «сорока», «кика» (диалектное «лебедь»). Существует уникальное свидетельство того, что эти названия были не просто метафорами: у группы русских (семейских) в Сибири имелся старинный женский головной убор, видимо, ритуального назначения, который состоял из шкуры селезня» (27. С. 57).
Вообще перья (орлиные, лебединые, гусиные, утиные, павлиньи, петушиные) как женские украшения широко применялись в южных губерниях России, причём рядились в них девушки и молодые женщины. Наиболее распространёнными были:
крючки (крашеные перья, пучки) — обруч из луба, обшитый кумачём, по верху которого прикреплялись красивые перья;
гуски — ушные украшения в виде белых шариков из пуха домашних гусей или сальных желёз диких уток (способ их ношения весьма архаичен — гуски надевались на ушную раковину с помощью кожаного ремешка);
косицы — пучки из перьев селезня, пришитые к красной тесёмке, носились на висках.
Также в южнорусских губерниях бытовало женское наспинное украшение, которое называлось конкретно крылышки. Оно представляло собой две кумачовые на холщовой подкладке, обильно украшенные лопасти (11х40 см), прикреплённые к «вороту» — тесьме на шее, застёгивающейся на пуговку или крючок. Правда, перья в её декоре не применялись, однако можно предположить, что до появления стеклянных пуговиц, бисера и блесток, всего того, чем украшались такие крылья в ХIХ веке, украшениями служили перламутровые ракушки и блестящие перья (32. С. 24, 43, 50, 59, 68, 131, 144, 173, 191, 194, 206, 218, 220, 224, 259, 309, 148).
Относительно наплечной одежды крыльями назывались разлетающиеся полы верхнего платья, пальто, пелерины. Учитывая популярность плащей на протяжении нескольких тысячелетий, можно предположить, что упоминаемые в сказках крылья это обшитые перьями куски матери, накидки, скрепляемые на плечах фибулами или завязками («крылышки навязали»).
Интересно, что в небольшом количестве сказок обычная схема «прилетели птицами — купаются девицами» нарушена: «…пришли двенадцать девушек … разделись, обернулись серыми утицами и полетели купаться» (3. № 220). Скорее всего, именно эта очерёдность правильная, так как вряд ли девицы носили свои съёмные крылья или пернатую рубашку постоянно, логично предположить, что их одевали только на обряд.
Мне могут возразить, что в сказках так же недвусмысленно говорится о полётах дев-птиц. Совершенно верно. Выражение «прилетели» до сих пор используется как метафора быстрого появления и перемещения. В сказке «Горе и беда» прямо говорится: «Идёт, идёт (королевич) и видит: летят некие три панночки и поют, да и то прибегши на речку, поскидали одеяние и стали купаться» (5. № 8. С. 80). Иногда описывается, что девы влетают в окно. Правильно, назвался груздем — полезай в кузов, одела крылья — входи как птица через окно.
Но самое главное в этом эпизоде удастся понять, если вспомним, что шаман, надев костюм из перьев, вертясь и озвучивая заклинания, телом может оставаться на месте, а его душа летит туда, куда нужно. Вот и южнославянская Вештица (ведьма) могла спать, а душа её летала бабочкой.
В Индии такими экстатическими культами «заведует» Шива — повелитель духов. Многие исследователи считают, что с Шивой индоарийцы познакомились лишь на территории полуострова Индостан. Однако в этом можно усомниться, если учитывать гениальное открытие современного русского лингвиста О. Н. Трубачёва — открытие языка и, соответственно, этноса Причерноморских индоариев.
В 1909 году в Одессе был обнаружен камень — посвящение Ахиллу Понтарху от стратегов Ольвии. Среди их имён есть греческие, римские, иранские и некий Сирдуханс сын Бутуната — не имевший вразумительных этимологий. Трубачёв предлагает такую реконструкцию: srd(h)u-hansa, что значит на индоарийском «наглый гусь» (сравни с совремнным русским выражением «хорош гусь!»). «Но особенно интересно отчество Сирдуханса — «властелин духов», также Bhutanatha — одно из имён бога Шивы. Тем самым в ономастике Старой Скифии обнаруживается соответствие индийскому культовому слову и теофорному имени, что, по нашему мнению, трудно переоценить. Словообразовательная сложность имени Бутуна — косвенно отражает сложность и развитость Bhutanatha — недвусмысленно свидетельствуют, что некоторые представления этого культа … принесены индоарийцами в Индию из Северного Причерноморья. С лингвистической точки зрения, важно отметить, что это сложение носит специфически индийский характер, без иранских соответствий» (48. С. 114).
В надписи II—III вв. н.э., посвящённой памяти некого Домнина, выходца из города Тиры (в устье Днестра), сына «благородных родителей», названы их имена: отец — Аврелий и мать — Магадава». «Перед нами, конечно, форма, практически тождественная др.-инд. maha-deva — м. р. «великий бог», также имя Рудры или Шивы, далее — имя Парвати, жены Шивы, и ряда других женщин. В применении к женщине это имя читается как «(принадлежащая) Великому богу». «Соответствующие понятия выражаются по-ирански иначе, поэтому не может быть и речи о сарматской принадлежности имени, несмотря на хронологически позднесарматскую эпоху» (48. 114—115).
Подражая Шиве, люди вводили себя в состояние экстаза, испив возбуждающей сомы. Заглянем в Ригведу: «Буйные ветры понесли меня вверх — ведь я напился сомы; понесли меня вверх соки сомы, и пять народов показались мне пылинкой… Одно моё крыло на небе, другое опустил я вниз — ведь я напился сомы! Я вознёсся до облаков — ведь я напился сомы!» (6. С. 113).
Сравним этот текст с молдавской сказкой «Фэт-Фрумос, сын охотника…», в которой герой, отобрав крылышки, женится на деве-птице. Эпизод свадьбы:
Закатили большой пир, и началось невиданное веселье. Танцевал жених с невестой, плясала вся молодёжь так, что земля из-под ног уплывала.
Ещё бы, сколько выпито-то было!
Невеста танцевала легко, как пёрышко, — то проносилась, словно вихрь, то так отплясывала по кругу, что оставляла всех с разинутыми ртами.
Видна хорошая подготовка. Итак, публика «разогрета».
— Коли вернул бы мне жених крылья, плясала б я во сто крат красивее.
Стали все гости просить жениха отдать ей крылья… Ничего не оставалось … как вытащить крылья и отдать ей. Девица приложила крылья к плечам, руки к бёдрам и … закачалась, заколыхалась, закружилась, что юла, глаза же молнии заметали. Все не сводили глаз с неё, а невеста прошлась дробью по краю круга, подалась быстрёхонько к центру и вдруг — бах! — ударилась оземь. Не успела б искра вспыхнуть, как обернулась она птицей и полетела вверх, всё выше и выше (38. С. 65).
Главное заставить не сводить глаз с мелькающего объекта, и массовый гипноз обеспечен. Совершенно очевидно, что здесь также описывается экстаз и публики, и танцовщицы.
Итак, восточнославянские и молдавские сказки говорят о девах-птицах, которые чаще всего прилетают к морю и занимаются экстатическими практиками; у южных славян есть подобные персонажи — Вилы; у германских племён богиня Фрейя имела пернатую сорочку, валькирии и Вёлунд превращались в гусей, лебедей и орлов; шаманизм практиковался у индоариев, проживающих у Чёрного моря. Ну и что? В фольклоре многих народов присутствуют женщины-птицы, и многие народы практиковали шаманизм. Почему же относительно Пятровок мы принимаем во внимание только традиции этносов славян, валахов, германцев и индоарийцев?
Потому что в рассматриваемой обрядности данных племён есть совпадение места и времени — это западный и северный берега Чёрного моря в начале новой эры (черняховская археологическая культура). Именно здесь в первых веках новой эры встретились с остатками индийских племён романизированные предки румын и молдаван, германские племена и славяне антской группы, впоследствии частично мигрировавшие на север и запад, давшие начало этносам русских, сербов и хорватов. Во времени и пространстве больше таких точек соприкосновения уже не будет. Но она была, и можно достаточно надёжно считать, что выявленные общие черты берут свои истоки у Чёрного моря в первые века новой эры. (Когда есть объяснение, отличное от теории «странствующих сюжетов», к нему стоит приглядеться).
Однако я вовсе не утверждаю, что сказочный эпизод купания дев-птиц появился в фольклоре впервые именно в начале новой эры, возможно, он гораздо древнее. Но в фольклоре вышеуказанных народов он расцвечен красками и обставлен реалиями именно черняховского времени, точно так же, как, например, в былинах древнейший сюжет змееборства окружён реалиями Киевской Руси.
Ярким маркером черняховского времени являются так называемые антские пальчатые фибулы, которые ныне совершенно определённо относят к славянской компоненте этой полиэтничной культуры. «Пальчатыми» их назвали условно за пять каплевидных выступов, мало похожих на пальцы, эти выступы как бы подчёркивают число 5, видимо значимое для для данного вида украшения. Иногда эти выступы образуют фигуру, похожую на солнце, иногда преобразуются в голову, руки и ноги человека (женщины), ниже которого изображён ящер. Фигуры друг относительно друга размещены валетообразно и соединены в области половых органов выпуклой дужкой, что позволяет некоторым исследователям говорить об изображении коитуса хтонического животного с человеком (см. выше об игре Яша-Ящер). И человек, и ящер обычно обильно украшены выступающими головами птиц. Мало кто из исследователей сообщает, что такие женские украшения носились в комплекте с «орлиноголовыми» поясными пряжками, так же названными невпопад.
Дело в том, что и пряжки, и фибулы декорированы одинаковыми птичьими головами. Но многочисленные головы на фибулах все исследователи дружно называют головами водоплавающих птиц, а единичные на пряжках — орлами. Учитывая тогдашнюю моду изображать вполне невинных животных (коров, лошадей) с хищным оскалом (см., например, Мартыновский клад и находки из Велестино), можно достаточно уверенно утверждать то, что птицы на металлических украшениях антских женщин — всё-таки утки или гуси. Распространены эти фибулы были на среднем Дунае, Балканах, горном Крыму и частично в Прибалтике. И археолог Седов, и историк Рыбаков предполагают ритуальное назначение комплекта. На фоне вышеизложенных этнографических данных этим ритуалом могли быть только действа Пятровского периода.
Кстати, женские пояса с металлическими пряжками сохранились в традиционном костюме донских казачек. Мнение о том, что это заимствование у кавказских народов, по-видимому, ошибочно. Казачество всегда подчёркивало своё этническое отличие от русских и украинцев, впрочем, официально нигде не признаваемое. Может быть, это память о происхождении от гордых и независимых дев-птиц и славянских молодцев? Память о «чисто» антском происхождении донского (и кубанского) казачества, в отличие от русских, украинцев и белорусов, в этногенезе которых свою роль сыграли западные славяне венедской и словенской групп.
Академик Рыбаков пишет: Самые сложные по количеству различных символических элементов фибулы Восточной Европы происходят из юго-западной половины «Русской земли», из той её части, которая … была сопоставлена с «Золотым царством» сколотского Колаксая, Солнце-Царя. Выше уже отмечалось, что юго-запад Руси это Подолия, страна, отдельная от Киевской Руси, родина Марьи лебеди белой. Такие фибулы носили до VII века, а Марья вроде бы жила во времена Киевской Руси, но, учитывая то, что исследователи не спеша, но все же склоняются к более древнему происхождению некоторых былин, возможность ношения Лебедью белой и другими подобными персонажами пальчатых фибул растёт (33. Илл. на с. 199; 36. С. 214, 217. Карта распространения антских пальчатых фибул — с. 220; 1. Илл. на с. 6). Сама фраза из сказки «нацепили крылышки» предполагает цепляющую застёжку-крючок и намекает на фибулу.
Как красиво выглядели накидки из белоснежных или золотых перьев, скреплённые крупной (до 20 см) блестящей фибулой! По идее, в таком наряде должны были хоронить его обладательниц. К сожалению перья долго не сохраняются. Но в могилах черняховского времени встречаются кости птиц, археологи считают такие захоронения готскими.
На протяжении всей работы я достаточно условно называла дев птицами, а ведь в каждой сказке называются конкретные пернатые. Чаще всего встречается группа водоплавающих: лебеди, гуси и утки, затем идут колпицы и голубки. Связь первых трёх с водой понятна, так же, как неоспорима связь этих пернатых с женщинами. До сих пор мы называем пригожую женщину лебёдушкой, агрессивную — гусыней, а имеющих переваливающуюся походку — уточками.
Разберёмся, кто такие колпицы, и причём здесь голуби. В словарях малоупотребительных и областных слов, приводимых в каждом солидном сборнике сказок, объяснения слова «колпица» разнятся. Например, в собрании сказок Афанасьева: Колпалица — колпица, белый аист (цапля). А в сокращённом сборнике «Народные русские сказки» из собрания того же Афанасьева, колпица — крупная птица из семейства чибисовых (болотная птица, чайка — по Далю). Тут, конечно, есть за что зацепиться — и цапли, и чайки не обходятся без воды.
В толковом словаре В. И. Даля колпица — чубатая птица из разряда цапель, перья идут на казачьи султаны. Приводится пословица: «Бела, как колпица». Колпина (обл. пск., твр.) — щёголь, чистяк, причёсанный. Очень симпатичная птица вырисовывается. И казачьи шапки с её пером выглядели как знак добычи у воды девицы-красавицы.
Однако последнее слово всегда остаётся за лингвистами, зрящими в изначальную суть. В этимологическом словаре М. Фасмера находим: колпик, колпица — молодая самка лебедя. И не только в русском языке, так же в верхнелужицком, кашубском, словинском, сербском и хорватском. «Отличились» украинцы, у них колпец — род пеликана. То есть сплошь белые птицы, любящие воду.
Интересно, что название «голубки» из этой же серии. Лингвистами давно замечена взаимозаменяемость глухих и звонких согласных — «г» и «к», «п» и «б». В балтийских языках *gulbia означает «лебедь» и является фонетической калькой слова kulpia — «колпица». «В общем языке славян и балтов были в употреблении, по видимому, по две формы некоторых слов, различаемые по оттенку значения, — глухая и звонкая, но после распада первоначального единства каждая из двух групп обобщила одну из этих форм», — считает А. П. Непокупный (4. С. 18, 45). Голубки, голбицы — это те же колпицы. Мы видим, что анализ названий птиц, в которых рядились девицы, говорит о глубокой древности описываемого явления.
Справедливости ради отмечу, что и у балтийских народов также существует сказочный сюжет о деве-лебеди, однако он, на первый взгляд, немного, а по сути — принципиально отличается от восточнославянских вариантов и рассматриваться в данной работе не будет. (Разница балтийских и славянских вариантов данного сюжета будет проанализирована в другой работе).
Возвращаясь к празднику Пятровок в целом, возникает вопрос, а что же, собственно, праздновалось всей деревней, ведь «урвать» положительных эмоций у воды удавалось единицам. И причём тут поедаемый олень? Некоторый свет на это проливает былина «Потык», в которой герой женится (неудачно) на деве-лебеди. «В кратком пересказе отдельные сюжетные схемы можно представить следующим образом: 1) Во время охоты Михайло Потык видит необычайной красоты белую лебедь или лань златорогую. Они просят не убивать их и превращаются в столь же красивую девушку, имеющую двойное имя Марья Лебедь белая. Марья предлагает Михайле взять её в жёны, на что герой соглашается» (51. С. 292). Мы видим, что в былине лань = лебедь.
В свадебной поэзии мы находим такие тексты:
Уж находилася да нагулялася
Уж и красной-то я девушкой,
Уж и белой-то да лебёдушкой.
Куда молодость моя да девалась?
Не конём ли она ускакала?
Не колесом ли она да укатилась?
(Колп. 437).
Здесь перечисляются символы Солнца: колесо, конь (аналог лани, оленя), лебедь. Здесь намёк о юности, проведённой под знаком Солнца, об определённом поведении в этот период.
Выше мы уже отмечали, что Пятровки — праздник Солнца, пятидневное продолжение Купалы. В народной традиции Солнце ассоциировалось с колесом, конём, а также с ланью, оленем и птицами — быстрыми и красивыми, и имевшими промысловое значение.
В эти дни добыча невесты была охотой в прямом смысле слова, того, кому было неохота — родители женили позже. И совсем не случайно главный герой, добывший себе деву-птицу, в подавляющем большинстве сказок именуется «стрелец», «стрелок», «егерь» и, как производное от «егеря» — Егор.
В. И. Даль в своём словаре сообщает о дне Петра: «встарь это был срок сбора кормов наместникам, волостителю, тиунам … разными припасами, маслом, сметаной, яйцами и прочим … а так же собирали по деревне припасы пастухи, бобылки и солдатки» (15). Такой, знаете ли, праздник живота с жертвованием продовольствия наименее защищённым слоям населения.
Вот и в сказках эпизоду с девами-лебедями предшествует такая ситуация: «Ну, и приказал (царь) ему (Несчастному Егерю), чтоб было к такому-то времени разной дичины, а коли не будет, говорит, к тому-то дню, так я тебе голову сниму». Или: «иван Васильевич дюже был хороший стрелок. И дошло до пана. Он потребовал его к себе … отправились они на охоту. Ну, тогда зверина стала к нему лететь: он на одном месте стоючи набил всякой зверины без конца!» (5. № 1, 2).
В этнографических сообщениях приносы начальству и подаяние нищим — это продукты животноводства, а в сказках — дичина. Социальные слои населения (князья, нищие), получавшие от общества продовольствие на Пятровки, — сравнительно позднее явление, а потому отдача им продуктов — не главное содержание праздника. Основное — в сборе продуктов на Пятровки — «подбивание бабок», «снятие остатков», осмотр количества продовольствия перед покосом и страдой — временем, когда все силы отдавались сбору нового урожая. В эту пору привод в семью «лишних» рук, пусть и «лебединых», считался большой удачей. Об этом была пословица: «умный женится, дура замуж идёт».
Подытоживая, выделим главное: народный праздник Пятровки это
Пятый по счёту весенне-летний праздник Солнца — и пять дней после Купалы. Период летнего солнцестояния. В мифологическом аспекте — жена Перуна Макошь гуляет с Солнцем — время узаконенной полигамии, но наказания за инцест.
Обрядовые действа:
— Всем миром: причащение к жертвенной лани — символу солнца, наблюдение за игрой Солнца, озвучивание мифологической информации (сказок, песен, быличек, пословиц) по теме, проводы русалок с полей в водоёмы, после чего человеческие игры в воде недопустимы.
— Половозрелыми особями: зачатие детей Солнца с полезными для общества качествами при свободном выборе партнёров.
— Женской половиной общества: ритуальные купания — игры с Солнцем — временное завершение активности «женских птичьих союзов», выполнявших общественную функцию инициирования девушек-подростков, последние в году кумления.
— Мужской половиной: «умыкание невесты» — последняя (до завершения страды) возможность жениться, самостоятельно, без помощи родителей, выбирая невесту.
Праздником Купалы не завершалась весенне-летняя обрядность, «точку» ставила Пятровка.
Мы видим, что наши предки, придерживавшиеся языческого мировоззрения, не были «дикарями». Наоборот, обычное право было твёрдо нацелено на соблюдение общественной пользы, но при этом учитывались физиологические и психологические особенности отдельной личности. Особям, нуждающимся в активном половом общении, весной и летом предоставлялась возможность его реализации, а те, что поспокойней — чинно сочетались браком осенью.
Праздники вообще, и Пятровки в частности, позволяли сохранять устойчивое равновесие коллектива.
Внешне, в современном быту нормы морали возвращаются на исходные языческие позиции. Однако в отличие от древних времён, когда прецедент мыслился деянием Богов, сегодняшнее «вольное» поведение и самой особью, и её окружением воспринимается как личная инициатива, как вступление на новый, неизвестный, скользкий путь. На самом же деле — общество выходит на старую, хорошо протоптанную, но слегка заросшую дорогу, мягко вьющуюся среди естественных препятствий. Разрушающий окружающий ландшафт, жёсткий, прямой путь, предложенный человечеству две тысячи лет тому назад, плохо вписывается в биосферу Земли.
Завершая работу, предлагаю читателям красивую сербскую народную песню, в которой упоминается тёплая страна Индия, последними лингвистическими данными определяемая вплоть до первых веков новой эры в Северном Причерноморье (по Трубачёву). Но самое главное, в ней говорится о любви и верности, присущей славянским женщинам, что никоим образом не противоречит выявленному выше славянскому языческому мировоззрению и соответствующему поведению:
На горе стояла рано утром Вила,
Облакам румяным Вила говорила:
«Вы куда летите и где были прежде?
Что с собой несёте в пурпурной одежде?»
Мы в стране индейской были-побывали,
Где под жарким солнцем холода не знали…
Индию покинув, мы несём оттуда
Людям три подарка дорогих, три чуда…
На горе, обвита утренним туманом,
Отвечала Вила облакам румяным:
«Первый дар гречанке вы отдайте: девы
Краше не найдёте по свету нигде вы;
Дар второй снесите стройной франкистанке:
Знатны они родом, стройны по осанке;
А кольцо — славянке… Верьте слову Вилы:
Коль славянка любит — любит до могилы (28. С. 44—45).
Литература:
В тексте цитаты выделены курсивом, далее в скобках первая цифра — порядковый номер цитируемого произведения из списка литературы, второй — номер страницы.
1. Амброз К. Основы периодизации южнокрымских могильников типа Суук-Су // Древности славян и Руси. М., 1988.
2. Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914.
3. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. В трёх томах. М., 1957.
4. Балто-северославянские языковые связи. Киев, 1976.
5. Чарадзейныя казкi. Частка II // Беларуская Народная Творчасць. Мiнск, 2003. Перевод мой.
6. Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии. М., 1983.
7. Валенцова М. М. Святые-демоны Люция и Барбара в западнославянской календарной мифологии // Славянский и балканский фольклор 2000. М., 2000.
8. Вейнингер О. Последние слова. Минск, 1997.
9. Вестник Традиционной Культуры, под ред. Наговицына А. Е. Вып. 2. М., 2004.
10. Виноградов Г. С. Страна детей. СПб., 1998.
11. Восточнославянские волшебные сказки. Составитель Зуева Т. В. М., 1992.
12. Героiко-фантастичнi казки. Киiв, 1984.
13. Гульнi, забавы, iгрышчы. Мiнск, 2003.
14. Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1996.
15. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995.
16. Дмитриева С. И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. М., 1988.
17. Единство — в многообразии. Сборник. М., 2001. Вып. 2.
18. Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Вып. 1.
19. Зеленин Д. К. Великорусские сказки Вятской губернии. СПб., 2002.
20. Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
21. Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии основного мифа // Балто-славянские исследования 1982. М., 1983.
22. Календарно-обрядовi пiснi. Киiв, 1987.
23. Каляндарна-абрадавая паэзiя. Мiнск, 2001.
24. Кулаков В. И., Марковец М. Птицы-спутники германских богов и героев // Балто- славянские исследования XVI. М., 2004.
25. Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М., 1996.
26. Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1996.
27. Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских обычаях и обрядах ХIХ — начала ХХ в. М., 1984.
28. Минаев Д. Д. Из сербских народных песен // Поэзия Югославии в переводах русских поэтов. М., 1976.
29. Народнi балладi Закарпаття. Ужгород, 1959.
30. Науменко Г. М. Этнография детства. М., 1998.
31. Обрядовая поэзия. Книга 1. М., 1997.
32. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. СПб., 2001.
33. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1988.
34. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1994.
35. Самозванцев А. М. Индия: религия, верования, обряды (древность и средневековье). М., 2003.
36. Седов В. В. Славяне. М., 2005.
37. Сержпутоускi А. П. Прымхi i забабоны беларусау-палещукоу. Мн., 1930. Перевод — мой.
38. Сказки народов СССР. М., 1986.
39. Снегирёв И. Словарь русских пословиц и поговорок. Русские в своих пословицах. М., 1997.
40. Соколов Ю. М. Русский фольклор. М., 1938.
41. Стоглав. Казань, 1887.
42. Толстая С. М. Славянские мифологические представления о душе // Славянский и балканский фольклор 2000. М., 2000.
43. Томпсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества. Пер. с англ. М., 1958.
44. Топорков А. Л. Сказка про бога Посвистача. Рукописи, которых не было. Подделки в области славянского фольклора. М., 2002.
45. Топоров В. Н. К реконструкции балто-славянского мифологического образа Земли-Матери // Балто-славянские исследования 1998—1999. М., 2000.
46. Топоров В. Н. Ещё раз о балтийских и славянских названиях божьей коровки в перспективе основного мифа // Балто-славянские исследования 1980. М. 1981.
47. Топоров В. Н. Числа // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988.
48. Трубачёв О. Н. INDOARIKA в Северном Причерноморье. М., 1999.
49. Усачёва В. В. Мифологические представления славян о происхождении растений // Славянский и балканский фольклор 2000. М., 2000.
50. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. СПб., 1996.
51. Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Былинная история. СПб., 1997.
52. Шеппинг Д. Мифы славянского язычества. М., 1997.
53 . А. Гильфердинг Когда Европа была нашей. История балтийских славян. М.,2010.
2005
Трудилась
![]()






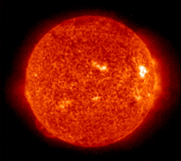














12 мая, 2020 - 2:01 пп
Численность свежих резервов всегда является ключевым моментом, за которым следят оба командира.
15 мая, 2020 - 10:49 дп
Молодые люди жаждут знаний о былом
18 сентября, 2020 - 1:43 пп
Только настоящий друг может терпеть слабости своего друга.
21 сентября, 2020 - 2:28 пп
Женщины знают только один способ нас осчастливить и тридцать тысяч способов сделать нас несчастными.